- Я родился в 1918 году в восточной части Померании, в той самой, которая сейчас оккупирована Польшей. Наша семья родом из Укервальд - это такой большой и красивый лесной район под Берлином. Мой отец был профессиональным охотником, специализацией которого являлась дрессура охотничьих собак. Все мужчины в моем роду по традиции становились лесниками. В Первую мировую, в1915-м году отец воевал на Восточном фронте и даже был там ранен - ему искалечило руку. В дальнейшем это значительно усложнило его профессиональную деятельность. Для того чтобы выстрелить из ружья ему приходилось довольно сильно ее изгибать.
- Была ли у вашего отца работа до того, как Гитлер пришел к власти?
- Отец был предприниматель, но мы жили так бедно, что даже сложно себе представить. Примерно с год мы жили в Южной Америке. Распродав все, что можно в Германии, мы отправились в Бразилию. Как я понял из семейных разговоров, отец хотел открыть предприятие, но его обманул компаньон. Отец потерял все до последнего пфеннига, и мы вернулись в Германию. Мачеха с моими сестрами (к тому времени моя родная мать уже умерла), остались в Бразилии в немецкой колонии Санта-Катарина одни - на девять долгих месяцев. Только в 1926-м году все они вернулись обратно. Потом к власти пришел Гитлер, и сразу стало лучше. Отец был старым национал-социалистом, но с 1934-го года он постоянно воевал с государственными ведомствами: он требовал от них расследований участившихся в то время жестокостей и убийств. За это он отсидел шесть недель в гестапо. Потом его отпустили…
Несмотря на происходящее с моим отцом, я учился в государственной школе. Странно, но это было так. Меня даже никто не спрашивал о моем отце, а ведь я очень боялся, что из-за него меня исключат из школы. В школу я пошёл как положено, в 1924-м году. Сначала я учился в деревенской школе. Причём я 5 или 6 раз менял одну школу на другую, потому что мы постоянно переезжали туда-сюда. В 1934 году я перешел в школу в Берлине, которая через полгода стала называться «национал-социалистическим воспитательным заведением». Нам выдали униформу, и поменяли программу.
- Чем отличалось обучение в Napola [Nationalpolitische Erziehungsanstalt - национал-политическое воспитательное учреждение, полная средняя школа для подготовки руководящих кадров, дававшая право поступления в университет] от обучения в обычной школе? Были какие-то другие предметы?
- Нет. Тогда в Германии были различные гимназии: классические - с греческим и латинским языком, реальные гимназии, реформированные - с латынью, английским и французским. Я же сначала учился в так называемой средней школе, с французским и английским языками. Потом из всего этого разнообразия оставили школы только с латынью и английским, но уже без французского. Мне кажется это правильным: латынь для университета, английский для всего остального – такая тогда была реформа.
- Вы хорошо учились?
- В начальной школе - да, а в Napola я находился где-то внизу. Достаточно хорош, но ничего выдающегося.
- В школах Советского Союза проводилась очень настойчивая пропаганда. У вас было что-то похожее?
- Когда я сегодня говорю, что пропаганда была ненавязчивой, мне никто не верит. Но я должен Вам сказать, что настойчивой специальной пропаганды тогда не было. Только лишь в биологии и немецком языке подчеркивался национал-социалистический образ мысли. Я даже помню одного учащегося, который писал свою аттестационную работу, дающую право на поступление в университет, по теме "«Капитал» Маркса". Такое было не типично, но вполне возможно, и считалось нормальным! Хотя курса марксизма у нас, конечно, не было. Он сам выбрал такую тему, исходя из личного интереса.
- Прослеживались ли в курсе биологии расистские идеи о превосходстве арийской расы?
- Я бы сказал немного по-другому. Нам это преподносилось в следующем ключе: белая раса создала господствующую в современном мире культуру, и западная, то есть арийская цивилизация, - в виде римской, а затем в виде английской империи, - завоевала мир, создала науку, ну и так далее… А например, про китайскую культуру нам ничего не говорили.
- Можно ли сказать, что славянские народы рассматривались вами как «унтерменши»? И можно ли сказать, что когда немцы входили в Россию, это понятие было ими твердо усвоено?
- Понятие "унтерменш" в первый раз я услышал во время войны, во время пропагандистского выступления. По-моему, об этом говорил Геббельс.
- На вашем уровне такого отношения не было?
- Нет. Знаете, я хочу подчеркнуть, что нам говорили о превосходстве немцев. Да, слово «превосходство» использовалось. Но в наших действиях и поступках этого не проявлялось в том виде, как это декларировалось. Сегодня я хочу сказать, что да, некоторая самоуверенность в нас присутствовала… Откуда это пошло? Когда мне было 10 или 11 лет, еще до Гитлера, в 1930-м году я вступил в так называемый Союз Молодежи. В Германии тогда было много различных молодежных организаций: обычно маленьких, с религиозной или патриотической направленностью. Я тоже стал членом в одной из таких групп. Мы в субботу ездили на озеро, пели песни.
- Гитара, костер?
- Да. На гитаре я не играл, но относился к тем кто это умел, с полным восхищением. В будни мы тоже встречались: пели песни, читали друг другу что-то из истории. Иногда нам читали вслух взрослые: и не какие-нибудь специалисты, а наш двадцатилетний вожатый, работавший подмастерьем электрика. Мы говорили не о национал-социализме, а о нашей родной Германии. Мы были патриоты! Понимаете? Там, у костра, именно в те годы, вне зависимости от идеологии национал-социализма, я заложил основы своей жизненной позиции. Потом все это срослось с Гитлерюгендом.
- Можно ли сказать, что Гитлер, придя к власти, просто дал развиться этим патриотическим настроениям?
- Да, и очень сильно. Нужно учитывать то, что в Германии каждый год в каждом регионе Германии было по два-три правительства, и каждый день происходили демонстрации: демонстрация коммунистов, демонстрация СА… Понимаете? Всевозможные! Люди устали от анархии. Неожиданно зимой 1933-го года я услышал по радио первое большое выступление Гитлера в качестве рейхсканцлера в Кенигсберге. Речь в нем шла о Таурогенской конвенции, также упоминались Польша, генерал Йорк, и последовавшие за этим события 1813-го года.
[Таурогенская конвенция — договор, заключённый 30 декабря 1812 года между прусским генералом Йорком и российским генералом Дибичем о взаимном нейтралитете в последние дни Отечественной войны 1812 года].
Он говорил о том, что мы прорвемся, что мы уже начинаем менять ход истории! А в конце выступления все запели голландскую молитву «на Господа уповаем». Это очень известная религиозная песня, я до сих пор ее помню, она начинается так: «Мы молимся и верим в наше новое будущее». Это было что-то невероятное! Какое было воодушевление и облегчение! Именно облегчение! Вот оно, наконец-то! Сейчас начнется! Исчезли партии, исчезли те же коммунисты, не было никого - мы стали едины. Народ объединился! Все, и мы, немецкая молодежь, стали едины! Это нужно понимать!
К сказанному нужно добавить, что поначалу в Napola Гитлерюгенда не было. Лишь в 1936 году все Napola были подчинены СС. Их инспектором стал СС-фюрер Хайсмайер (Obergruppenführer August Heissmeyer). Что там точно происходило, я не знаю, но мы получили униформу Гитлерюгенда. И не такую, как в обычных отрядах СА, а даже лучше. Именно тогда появился Имперский закон о молодежи, который гласил, что каждый немец должен вступить в Гитлерюгенд. Поэтому нас сразу же автоматически включили в него. Надо заметить, что руководство Гитлерюгенда в нашей школе никаких прав не имело, а мы просто носили униформу, и ничего более.
Летом 1936 года, за 3 месяца до открытия Олимпиады в Берлине, начались приготовления к ней. Волонтеров на работу на Олимпиаде набирали в том числе и в Napola. Я, разумеется, записался. Нас всех собрали, каждый волонтер получил специальный белый костюм, и началась подготовка.
Во время открытия я приветствовал сборную Бразилии. Мне вручили большой бразильский флаг, и я представлял их команду. С тех времен и до сих пор у меня хранится значок от Бразильского Олимпийского Комитета! А в последний день олимпиады я нес флаг Перу. Команда Перу уже уехала, но кто-то же должен был ее представлять… Все те, кто нес флаги, вместе с 30 или 40 командами олимпийцев, выстроились перед главной трибуной, на которой находился Гитлер и члены Олимпийского Комитета. Помню, что рядом со мной стояли команды Австрии и Филиппин. Вперед вышли очень красивые и прекрасно одетые девушки, которые должны были на каждый национальный флаг повесить золотой венок. Его каждая делегация могла увезти домой. Мы, по команде, склонили знамена, а юные красавицы повесили на них венки, которые фиксировались небольшим крючком. Было темно, мы стояли в свете прожекторов, направленных на нас. По команде мы поднимаем флаги, и тут венок с моего флага падает на землю! Только у меня одного! Прямо перед Гитлером и всеми остальными! У меня одного! Вот Гитлер, вот упавший венок и я…! Мой товарищ из Napola, стоявший сзади, зашептал, что я должен опустить знамя, а он выскочит и наденет венок. Но я решил, что опускать знамя и возиться с венком не стоит. Просто товарищ поднял его и после церемонии отдал мне. Он хранился в моем доме, - который теперь находится на территории Польши. Жаль, венок был очень красивый, с эффектной золотой лентой.
Олимпиаду я видел с первого до последнего ее часа. Должен вам сказать, что это было абсолютно восхитительным событием. Разумеется, тогда везде висели свастики и прочая нацистская атрибутика. На стадионе было очень много иностранцев, но я не заметил, чтобы у них это вызывало раздражение. Когда появлялся Гитлер, все тут же вставали. Сами! Их никто не заставлял!
- В советской пропаганде говорилось, что Гитлер очень переживал, когда выигрывали негры, это правда?
- Нет, я в это не верю. Я сидел у беговой дорожки, рядом с Джеймсом Оуэнсом, который сначала выиграл забег на 100 метров, а потом на 200. И все этому были рады, черные и не черные. В 1972 году во время Олимпиады в Мюнхене, Оуэнс снова приезжал и выступал по телевидению, я смотрел его интервью. Его спросили: «Господин Оуэнс, как вы пережили Олимпиаду 1936 года? Там же был Гитлер, нацисты?» Оуэнс ответил: «Ничего не знаю, это была отличная Олимпиада». Его опять спрашивают в том же ключе: "Так ведь нацисты, Гитлер?" А он им отвечает, что ничего такого тогда не ощущалось. Думаю, это очень показательная ситуация.
Сейчас говорят, что Гитлер устраивал прием в честь золотых медалистов, а Оуэнс отказался прийти. Но я в это не верю. Оуэнс бы об этом сказал, он не был настолько глуп.
- Довелось ли Вам участвовать в сжигании книг на площади, или слышать об этом?
- Определенно слышал, но не более того. По-моему это происходило в 1933 году. Я тогда был в Napola, и у нас ничего такого не было. 30 января, в день, когда Гитлер пришел к власти, у нас проводился большой праздник. Нашему классу зарезервировали место в факельном шествии, которое проводилось в честь его победы. Мы маршировали мимо Имперской канцелярии по заполненным ликующими людьми улицам. Был праздник, все радовались, вышел Гитлер, мы вместе со всеми закричали: «Хайль!» Потом точно также его приветствовали в Вене 13 марта.
Школу я закончил в 1939-ом и получил право на поступление в университет. Вместо этого я захотел пойти в военное училище, чтобы стать офицером армейской пехоты. Но мне приписали проблемы с глазами, которых у меня тогда не было, и не взяли меня. Я возмущался, говорил, что этого не может быть, что это ошибка. В ответ они предложили повторить попытку через полгода.
Неожиданно я увидел рекламу Ваффен СС… Я выяснил, что обучение проходит в одинаковых с армией условиях, и засчитывается как служба в армии, то есть как выполнение воинского долга. Если бы у меня что-то не заладилось, то через два года меня бы уволили, и я смог бы поступить в университет. На тот момент такие условия оказались очень приемлемыми. Вот так и случилось, что в 1939 году я поступил добровольцем в офицерскую школу СС. Вы должны понимать различия Ваффен СС от СС: это необходимо, чтобы правильно понять то, о чем я буду рассказывать. Мы обучались точно так же, как и обыкновенные армейские офицеры. Как я узнал после войны, существовал приказ Гитлера или Верховного командования, который гласил, что контроль над обучением в юнкерских школах Ваффен СС должен иметь Вермахт. Именно Вермахт! Обучение должно происходить таким образом, чтобы в случае войны обучающиеся смогли выполнять обязанности офицера, такие как тактика, оружейное дело, логистика, и прочие.
- А танцы у вас тоже были как в училищах Вермахта?
- Танки!?
- Танцы. Мы от других ветеранов слышали, что на офицерских курсах вас учили обращаться с женщинами?
- Я совсем не ожидал такого вопроса. Да, в училищах Вермахта были танцевальные часы… А у нас не было танцевальных часов, но нас учили, как нужно правильно двигаться. Например, в Брауншвейге имелось всего два танцевальных клуба. Там после обеда происходили танцы с чаем. Там также появлялись наши преподаватели, но уже в гражданской одежде. Мы считали, - это для того, чтобы контролировать, хорошо ли мы себя ведем.
- Какие были отношения с вашими товарищами по юнкерской школе?
- Вполне товарищеские, нормальные.
- Сколько времени продолжалось обучение?
- Десять месяцев, с апреля до декабря 1939-го.
- Был ли в юнкерских школах Ваффен СС точный план обучения?
- Да, все было расписано по неделям, так, как положено.
- С первой по четвертую неделю - введение, военная история от античности до современности, с пятой по восьмую - обязанности немецкого солдата, воспитательная роль армии по книге Гитлера «Майн кампф», шпионаж, саботаж?
- «Майн кампф»? Нет! Конечно, считалось, что мы читаем эту книгу, но про нее не спрашивали. Некоторые действительно читали, но я смог осилить только часть, потому что она слишком толстая. Нет, ее изучение точно не входило в программу.
- Нужно ли было при поступлении доказывать свое арийское происхождение c XVIII века?
- Да. Про XVIII век не скажу, но свое арийское происхождение я смог подтвердить с 1800 года. Для этого я собрал свидетельства о крещении своих родных. Сегодня о своих предках я знаю немного больше.
- Когда Вы окончили юнкерскую школу Ваффен СС, какое у вас было звание?
- Штандартен-обер-юнкер - оно соответствовало званию обер-фейнрих в Вермахте.
- Как происходила церемония окончания школы и присвоения званий? Был какой-то праздник?
- Нет. Уже шла война, нам сказали, что нас переводят обратно в армию, но не перевели. Никаких праздников не проводилось.
- После окончания юнкерской школы, кем Вас назначили?
- Я очень хотел в пехоту, потому что к технике не питал никакого интереса. Но после производства в лейтенанты меня послали в саперную школу на курсы командиров взводов. Я сразу же отказался, и меня отправили в дивизию «Мертвая Голова», где поначалу все шло так, как я хотел. Но уже началась война, и мне сказали, что есть очень большая нужда в саперных командирах. Пришлось подчиниться. Меня перевели в Дрезден, где я стал офицером-преподавателем в резервном батальоне и обучал рекрутов сапёрному делу. Такие у меня были обязанности. В «Мертвой Голове» я числился в резервной части, дислоцировавшейся в Дрездене; акцентирую - не в полевой.
Подготовкой рекрутов я занимался до июня 1940 года. В начале июня из этой резервной части меня вместе с другими товарищами перевели во Францию в полевые части СС, а именно в Фау-дивизию [SS-Verfügungstruppen-Division, SS-VT], которая была в мирное время «частью быстрого реагирования». Потом Фау-дивизия стала называться дивизией «Дас Райх». Туда я прибыл прямо из Брауншвейга вместе с большой компанией кандидатов в офицеры. Связи с нашей дивизией не оказалось, она продвинулась уже к испанской границе. А через несколько дней – капитуляция Франции. Я вспоминаю, что когда я прибыл в полк «Германия», как раз объявили о капитуляции, и после этого боев уже не было.
- 21-го апреля 1941-го вас перебросили на восточную границу. Вы знали зачем?
- Хе-хе. Хороший вопрос! Надо подумать. 21 апреля? Нет, в мае мы еще находились в южной Германии, в Тюбингене. А в начале июня уже в Польше… Помню, как мы в компании молодых офицеров обсуждали, что же будет дальше. Мы высчитывали и делали прогнозы. У нас оставалась бы только одна возможность прогноза, если бы не пакт о ненападении! Кто-то из нас даже предполагал, что мы получим право прохода через Советский Союз в Персию. Но это были всего лишь слухи и домыслы. До самого нападения на Советский Союз об этом не было сказано ни слова!
Я сам об этом часто думал, с какими планами мы едем на восток. Обсуждалась еще третья причина концентрации войск на границе: на случай нападения Советского Союза на нас. Такой вопрос тоже поднимался. Идея о нападении на Советский Союз была тогда совсем не очевидна.
- Когда и как вы узнали, что произойдет нападение на Советский Союз?
- Точно сказать не могу. Кажется, вечером или ночью нам зачитали общий приказ Гитлера. Для нас это не прозвучало сигналом к утренней атаке, «Викинг» находился во втором эшелоне, мы просто приняли к сведению – война началась! Это был очень волнующий момент.
- Кто Вам зачитывал приказ Гитлера?
- Наверное, командир роты, как это обычно бывало. Когда приходил приказ, его надо было кому-то зачитывать. По-другому не могло быть.
- Под Львовом убили вашего командира полка или это был какой-то другой офицер?
- Да, погиб командир полка. Вероятно, он наткнулся на попавшие в окружение советские войска. Там встречались отдельные не сдавшиеся в плен русские. Вряд ли это были партизаны, их тогда еще не было.
- Как это было воспринято?
- Что я должен сказать? Война…
- Летом 1941-го года, какие у вас, сапёров, были задачи? Вы строили мосты?
- Обычно мы убирали мины, но тем летом нам заниматься этим не пришлось. А если говорить о мостах, то один я построил возле городка Смела в районе Черкассы - Кременчуг.
При наступлении в сторону Днепра мы должны были перейти через один из его многочисленных притоков. Там стоял очень высокий частично взорванный мост. У него обрушилось несколько пролетов, но его решили использовать. Один батальон форсировал реку, занял плацдарм, а я, - не очень хорошо понимая, что делаю, так как был недостаточно обучен, - занялся укреплением переправы. Хорошо, что у меня была пара сообразительных унтер-офицеров - они импровизировали прямо на ходу. В результате мы там все неплохо укрепили. Этим пришлось заниматься целый день под обстрелом артиллерии - русскими велся беспокоящий огонь. В первую ночь по мосту перешли самые важные части дивизии: авангард с артиллерийским батальоном, пехотный батальон и прочие. Потом начались контратаки под Черкассами, а затем нас окружили. Затем нас деблокировали, на смену нам подошел другой полк – «Нордланд».
В то время Красная Армия была не в состоянии доводить подобные операции до логического конца. Во время нашего наступления они провели ожидаемый контрудар во фланг, с востока через Днепр. Мы продвигались вперед, а они пытались прорваться за нашими спинами. Однако надо признать, что ситуация тогда сложилась критическая.
Помню, как со своим взводом был включен в состав штурмовой группы. Нашей задачей являлось взрывать все, что мешало дальнейшему продвижению вперед. Например, один раз нам пришлось штурмовать комплекс казарм. Мы атаковали его всем полком, и во время этой атаки я лично, заложил под дом противотанковую мину, а затем подорвал ее. Тогда такое я еще делал сам! Это оказалось достаточно сложным занятием, потому что по нам стреляли с верхних этажей. Мы с моим взводом обошли казарму, и тут появилась большая масса людей с поднятыми руками. Передо мной стояла толпа советских солдат. От толпы отделилось несколько человек и они, махая над головой чем-то белым, стали приближаться к нам. Когда эта группа подошла достаточно близко, один из них бросился мне в ноги, обнял их и стал просить милосердия. Я не знал как себя вести и приказал ему встать. Он очень нервничал и боялся. Вы понимаете ситуацию? Он думал, что я его застрелю! Этот русский говорил: «Пожалуйста, не расстреливайте меня». Я протянул к нему руку и поднял его…
Потом все пленные сами пошли в наш тыл, и мы их совсем не охраняли. Это событие, встречу с тем человеком, я вспоминаю очень часто. Позже я видел пленных и в Орловской тюрьме. Когда мы опрашивали пленных, они говорили нам: «У нас кончилось топливо и боеприпасы. Нам дали приказ прикрыть нашу артиллерию, и если наши пушки будут потеряны, нас расстреляют». Я знаю, что такие строгие приказы давало советское руководство. Какое-то сумасшествие...
Я должен вам рассказать, что нам в Германии перед войной рассказывали о происходящем на Украине, об этих показательных процессах. А потом на первой неделе войны в Лемберге [Львове] произошли эти ужасные убийства украинцев: ГПУ казнило перед уходом тысячи заключенных. Этот отвратительный факт стал шоком для нас. А потом еще появились известия о том, что нашли немецких летчиков, которых массово убили, всем разрезав животы.
- Сколько было летчиков?
- Летчиков? Двое или трое. Вы понимаете, какая к нам поступала информация в начале войны? Мы подумали – «Значит, вот как это будет!»
О том, как приказывал вести войну Гитлер, мы ничего не знали. Эти приказы… Например, «приказ о комиссарах» я узнал только после войны. У нас его не зачитывали, нам он был неизвестен! Я верю, что мой генерал Штейнер, его не давал, и такого приказа в нашей части не было!
- По этим событиям в Львове, 30 июня 1941-го года. Что вы тогда об этом знали? Вы видели, как украинские националисты убивали евреев?
- Да. Мы это мы видели на улицах, но не понимали, кто кого убивает. Мы тогда думали, что это гражданские разбираются между собой. К тому же, на нас ведь тогда тоже нападали. Мы маршировали по улице, потом нам пришлось остановиться, потому что все было забито народом. Колонна постоянно двигалась вперед, поэтому можно было видеть, как преследуют евреев.
Но худшим оказалось то, что мы узнали об этих ужасных вещах в подвалах тюрьмы Лемберга. Я сам этого не видел, мне нельзя было покидать колонну, но наши мотоциклисты туда поехали и сразу нам рассказали об увиденном.
В таком настроении началась для нас война. Когда я сегодня об этом думаю, то понимаю, что та война была отвратительной. Это не стало нормальной, обыкновенной борьбой разных государств, а превратилось в фанатичное, тотальное истребление себе подобных! И с нормальной солдатской войной это не имело ничего общего!
- Вы, молодой тогда человек, воспринимали то, что происходит на улицах, как «чужую жизнь», или вы не вмешивались, потому что не было приказа?
- Приказов в этом направлении вообще не давалось. Чтобы передать вам наш тогдашний настрой, приведу пример. Я в какой-то момент увидел, как солдаты загнали евреев в пруд, и заступился за них. Эти солдаты были не из моей роты, и я действовал без приказа. По рассказам знаю, что так же поступали еще некоторые офицеры из нашей колонны, и в этом не было ничего особенного. Я не хочу преувеличивать, но в кое-где мы даже успокоили ситуацию. До нас эта вакханалия длилась уже два дня.
- Уже в августе вы получили Железный крест 2-го класса. За что?
- За бой в небольшом городке южнее Бердичева. Там Красная Армия наносила контрудар, который продолжался одну неделю и доставил нам большие неприятности. Тогда мой взвод применили не как саперов, а как пехоту. Там у меня появились первые погибшие. Потом я получил ЖК2. А в сентябре мы уже были в Днепропетровске.
- Вы воевали на Миус-фронте, когда началась зима. Как там обстояло дело с распутицей и плохой погодой?
[Зимой 1941-42 гг., весной и в июне 1942 г. 5-я моторизованная дивизия СС «Викинг» вела оборонительные бои на реке Миус].
- Интересный вопрос. Миус-фронт у многих остался в воспоминаниях в основном из-за зимы и мороза. Что же запомнил я?
В ноябре мы стояли за Миусом, в какой-то деревне под названием Новка. Вот в ней 17 ноября я и заболел желтухой. Меня свалила жестокая лихорадка, и врачи сказали: «Немедленно отправляйтесь в тыл, в лазарет!» Я попытался спорить, но они не согласились под тем предлогом, что моя желтуха проходит в тяжелой форме. Меня отправили на аэродром в Таганрог, а оттуда на Ю-52 перевезли в Днепропетровск. Самолет был полностью забит ранеными и больными. В нем стояла жуткая вонь от гниющего обмороженного человеческого мяса. Все лежали, а я лежачего места не получил, потому что еще мог держаться на ногах.
В Днепропетровске мы приземлились на пустынный загородный аэродром, где никого и ничего не было. Чтобы не погибнуть, всем пришлось идти пешком несколько километров! Невероятно, но мне это удалось. В каком-то бреду я шел, падал, с трудом поднимался, шел, и снова падал… Мне кажется, что по дороге меня все-таки кто-то подобрал.
В Днепропетровске все отели стали госпиталями. Первый отель оказался закрыт! Сейчас верится с трудом, но я это точно помню: мне пришлось добираться пешком до следующего отеля. Транспорт отсутствовал как таковой. Второй – та же история. И только в третьем госпитале меня приняли. Но что там творилось! Солдаты с обморожениями лежали прямо на полу в проходах. Там я сразу получил очень хорошее лечение, зато в придачу заболел гриппом. Но молодой организм справился, и в самое короткое время я снова встал на ноги.
Однажды посмотрев в окно, я увидел грузовик с нашими тактическими знаками. Я привлек внимание водителя, и объяснил ему знаками, чтоб он подождал какое-то время. Но врачи отказывались меня отпускать, считая не достаточно здоровым. Помню, что я выпросил у них какую-то бумагу и ушел. Так началась моя поездка на этом грузовике по бескрайним снегам России. Она проходила с большими приключениями, и это отдельная история…
Мы добрались до города с каким-то коммунистическим названием, - по-моему, это был Куйбышев. Там из окопа вылез кто-то в коричневой униформе, и сначала мы подумали, что это советский. Но он оказался словаком, на нашем участке уже стояла их дивизия. Словаки и русские выглядели очень похоже. Мы стали у него спрашивать, где участок «Викинга». Этот солдат знаками нас отправил к одному командиру батареи, словацкому немцу, который говорил по-немецки. Этот командир нам все объяснил.
Мой взвод находился прямо в дельте Миуса, где его подчинили 3-му батальону полка «Германия». Наконец я нашел штаб взвода и моего заместителя. Они расположились в деревенском доме. У них был накрыт стол - вкусно пахло жареным мясом. Я был сильно голоден и попросил угостить меня, заметив при этом, что мне после желтухи нельзя кушать жареное. Мой заместитель на это сказал: «Ерунда, ешь».
Мы обсудили положение, обменялись информацией с заместителем, и тут раздался взрыв снаряда тяжелого калибра, который лег справа от дома. Потом с другой стороны упал второй. Стало ясно, что русские взяли «вилку». Мы мгновенно выскочили на улицу и нырнули в укрытие. Рядом с домом находился погреб, в котором сидел его хозяин и наш радист. Все бросились в этот погреб…
Когда я уже спускался вниз по лестнице, прямо перед дверью дома раздался взрыв. Бедный владелец дома погиб. В варварском холоде этого грязного подвала я и провел свою первую ночь после возвращения из госпиталя. Там валялись какие-то тряпки, одеяла и прочие отвратительные вещи. Из-за этой грязи у меня в России трижды случалась чесотка. Это омерзительно…
Потом с Миуса нас отвели назад в Успенскую. Мы разместились в каком-то здании, в котором отсутствовало элементарное отопление. Нам пришлось построить маленькую печь. Там даже нельзя было сидеть, приходилось только лежать. Но и это мы как-то пережили.
А потом, это произошло примерно на Рождество, меня назначили командиром батальона, и мне уже не надо было сидеть во всяких дырах. Ну, по крайней мере, ночью! Днем же приходилось прятаться постоянно! Иначе нас бы немедленно убили из противотанковой пушки «Ратш-бум». У советов их было очень много. В Красной Армии к каждому грузовику всегда прицеплена пушка - это для них типично.
- Вы получили зимнюю одежду?
- Нет. Тогда совсем ничего.
- Как вы боролись с холодом?
- Точно не помню, но это всегда происходило абсолютно варварски. Мы там строили позиции, устанавливали мины. Я каждую ночь проверял какой-нибудь из моих взводов. Делать это можно было только ночью.
Начался страшный период распутицы: окончательно расползлись дороги, растаял снег, потоки воды пошли по… Русские называли это balka. Потоки обладали такой мощью, что рушили берега. Я тогда ездил на лошади. С лошадью тоже все получалось не так просто… Сверху поток талой воды, а снизу лед. Лошадь скользила и падала. А вместе с нею падал я! Примерно так происходили наши прогулки из Успенской на фронт.
Мы гордимся тем, что оставили о себе хорошую память в Успенской. Когда я туда приехал осенью 1992-го года, нас приняли бургомистр и престарелые хозяева наших бывших квартир. Еще пришел молодой человек, который услышал о приехавших немцах. В личной беседе со мною он упомянул о воспоминаниях своей бабушки. Она рассказывала ему, что немцы себя вели очень хорошо.
Мы ездили туда каждый год. Это единственное место, в котором мы простояли столь длительное время, более шести месяцев. И к тому же возле Успенской покоятся 800 наших товарищей погибших в этой зимней войне. К сожалению, кладбище не сохранилось, вместо него мы увидели распаханное поле. Но бургомистр уверил нас, что там больше не сеют, из-за того что везде лежат кости. С тех пор то место огорожено, освящено, и туда каждый год приезжают посетители.
- Чем Вам запомнилась зима 1941-42 годов?
В Калмыцкой степи 6 января я должен был оборонять одну деревню, которая постоянно переходила из рук в руки. Когда в нее вошли мы, там еще лежали погибшие советские солдаты, и стояло несколько подбитых танков: наших и советских.
После захвата деревушки мы оказались в критической ситуации. У меня не было противотанковых пушек, а в качестве усиления осталась только 20-миллиметровая зенитная пушка.
Через некоторое время нас атаковали русские при поддержке четырех легких танков. Два из них мы смогли уничтожить в результате напряженного скоротечного боя.
- Чем вы их уничтожили?
- Теллер-минами. Это удалось сделать двум солдатам, причем одному из них было всего 17 лет. Но в этом бою погибло трое наших солдат. И нам еще повезло! А вот наших соседей, как я потом узнал, атаковало два десятка Т-34.
На всякий случай я выкопал щели вокруг моего командного пункта. Когда появились танки, мы спрятались в эти укрытия. После первой атаки произошла небольшая пауза. В этот момент ко мне подошел унтер-офицер, командир автомобильного полувзвода, и спросил, не должен ли он увести все машины? Я сказал ему, что да, и немедленно. В этот момент из-за дома выехал Т-34 и в упор выстрелил осколочным снарядом. Я успел нырнуть в укрытие, а возле унтер-офицера и еще одного солдата разорвался снаряд. Один погиб на месте, а второго мы, к сожалению, не смогли спасти, он потерял ногу и потом попал в плен.
Я лежал в укрытии под стеной дома, а этот Т-34 стоял буквально в метре от меня и ворочал башней. Затем он проехал немного вперед и развернулся… Танк стоял перед нами в трех или пяти метрах, опустив пушку в направлении нашего укрытия. Мы с артиллерийским наблюдателем смотрели ему прямо в ствол и ждали, когда Т-34 выстрелит. Я сказал наблюдателю: «Крензе, нам осталось только помолиться. Это конец!» Но танк почему-то не выстрелил и поехал дальше. Вероятно, русский подумал, что дом разрушен, и в живых там никого не осталось. Он нас не увидел!
Танк проехал дальше, развернулся, встал в укрытие и начал наблюдать. Открылся командирский люк, из него высунулся танкист, и его тут же застрелили… Это все продолжалось считанные минуты, и казалось невероятным. Я потерял связь с моими взводами, и не знал, что там происходит. А там танки русских также безнаказанно катались по нашим окопам. Солдаты бежали, атаковать танки оказалось нечем. Поэтому я приказал немедленно отступить. Хватит! Везде стояли танки русских! Я остался один и никому не мог приказать забрать раненого с оторванной ногой. Передо мной, как командиром, встал серьезный вопрос. Я должен был его тащить сам, - но это оказалось абсолютно невозможным. Он был гораздо тяжелее меня, и я не мог его нести. Наконец, я решил, что он попадает в плен, а я должен спасать роту.
В ста метрах от нас виднелся одинокий дом, возле которого я оставил мой служебный автомобиль, в котором лежала моя сумка с личными вещами, фотографиями и прочим. Нужно было как-то ее забрать. Но перед автомобилем стоял русский танк. Я стоял и думал: «Это же секундный момент. Выпрыгни, схвати сумку и беги». Но я так и не рискнул, и просто ушел прочь…
Наступил вечер. За нашей спиной в деревне взрывались дома и автомобили. Красные находились под огнем, который я направил на них по рации. Мы ушли из этого ада на ближайшую высоту и закричали: «Ура! Ура!» У нас оказалось всего трое погибших, а вся рота теперь была в сборе. У нас еще оставалось несколько пулеметов, и мы были полны решимости сражаться дальше.
В эту же ночь мы отошли на соседний укрепленный пункт. Сидевшие в нем солдаты с волнением поведали нам, что они в ужасе наблюдали, как нас атакуют танки, но ничем не могли помочь нам. Мы все увидели, что к русским подошло еще какое-то количество танков. Они готовились к дальнейшему наступлению…
Потом потерянный нами населенный пункт атаковали «Штуки». Мы насчитали более ста атак. Наступления русских не последовало!
С этого укрепленного пункта, в котором мы укрылись, нам приказали отходить назад в станицу Орловскую. В ней находился центр снабжения всего танкового корпуса. Туда собирались и все саперные роты.
Мы добрались до какого-то промежуточного пункта полностью измученными, переутомленными. Я приказал поставить только один двойной пост, а всем остальным спать, чтобы ни случилось. Это уже был предел… Меня разбудила женщина: «Pankomandante, pankomandante, russkisoldat!»
Я прихожу в себя и слышу - пеньг, пеньг, пеньг - выстрелы из винтовок. Выскакиваю из дома, а вокруг вижу русских солдат. Они нас преследовали ночью! Хорошо, что они еще пока не добрались до места сбора саперных рот.
Я не отдавал никаких приказов, но солдаты уже все проснулись. Шел бой. У Советов, вероятно, не оказалось нормального руководства. Они явно имели численное преимущество, но атаковали вяло и неорганизованно. Тем не менее, ситуация становилась критической. Мы отбивались ружейным огнем и гранатами. Бой длился несколько часов, и уже шел на улицах деревни.
В это время старший начальник, который занимался снабжением базы, сообщил командованию, что нас атаковали, и нужно срочно принимать меры. С помощью танков, которые вышли из ремонта, они организовали контратаку и тремя ротами прорвались в наш населенный пункт. При этом было взято около 20 пленных. Это были русские, которые только что открыли почтовые мешки нашего полка, потому что очень хотели есть. Чтобы нас настичь, они должны были всю ночь маршировать на этом холоде. Пленные говорили нам, что по дороге у них несколько человек замерзло до смерти. У нас такого никогда не было. Мы от удивления только мотали головами.
- Во вторую зиму вам уже выдавалась теплая одежда?
- Да, мы получили красивые куртки, - такие же, как в танковых дивизиях. Мы видели такие во время отступления, когда оказались уже перед Ростовом. Там стояла танковая дивизия Вермахта, и они все были полностью в белом, новом обмундировании. Оно выглядело гораздо лучше, чем наше.
Я точно не могу сказать, когда мы получили зимнюю одежду. Это стало для нас серьезной проблемой, как вы знаете. Советская армия зимой была лучше оснащена.
- Можете объяснить, как уничтожить танк теллер-миной?
- Надо сделать промежуточный взрыватель на фитиле. Там внутри подрывной капсюль и взрыватель, - а фитиль имеет длину примерно 10 сантиметров. Его заводят внутрь. К примеру, вот как мы это делали в Днепропетровске: мой посыльный ее держал, а я зажигал фитиль, который горел как минимум 10 секунд. Затем мину бросали в окна.
Был еще один способ, он считался оптимальным. Иногда мы использовали прилипающие магнитные мины. Но в этом случае вам надо подойти близко к танку, и суметь отойти от него, чтобы не погибнуть от собственного заряда. Некоторым такое удавалось! Считалось, что магнитные мины лучшее оружие против танков. Это не моя мысль, нас так учили!
Когда тот танк в деревне стоял передо мной, я подумал, что мог бы его уничтожить ручными гранатами. Мне надо было бы бросить их по пологой дуге, потому что танк стоял ко мне задом, уязвимой стороной. Если бы граната попала сзади на мотор, танк, вероятно, загорелся бы - существовала такая возможность. Но я этого не сделал, потому что у меня не имелось ручных гранат, а голова у меня находилась где-то в другом месте!
- В степи довелось сталкиваться с кавалерийскими атаками?
- С настоящими кавалерийскими атаками - нет. Но после первого боя полк со «штуками» атаковал кавалерийскую дивизию. На нее это очень плохо повлияло: после боя везде лежали лошади. Эта кавалерийская дивизия оказалась полностью разбита.
- Еще во время войны с кавалерийскими атаками встречались?
- Больше нет.
- Как праздновался день рождения Гитлера, были ли 20-го апреля какие-то ритуалы?
- Каких-то специальных ритуалов я не припомню: по крайней мере, у нас. В газетах об этом конечно писали, но в школе никакого специального праздника не проводилось.
- А на фронте?
- Ха-ха. А как вы себе это представляете? Скорее было так, что мы ждали от Советов большого артиллерийского обстрела по этому поводу, нежели готовились к празднику.
- Обстрел реально проводился?
- Нет. Был один раз, но по другому поводу. Мы ожидали серьезного обстрела в день Красной Армии, 23 февраля. Мы его ждали, и он случился. Но оказалось - это салют.
- Было так, что русские атаковали специально под Рождество?
- По-моему, да. Я могу Вам рассказать про Рождество на Кавказе зимой 1942-1943-го года. Мы тогда держали фронт где-то возле Орджоникидзе. Неожиданно, под самое Рождество, нас погрузили в поезд и отправили для усиления на другой участок фронта, который находился южнее Ростова.
Я со своей ротой и танками отходил в качестве последнего арьергарда. Мы двигались через Дьяково, это был такой населенный пункт на пути нашего отступления. В это время наши армейские саперы минировали проезд через город. Мы также имели приказ взорвать мосты до того, как к ним подойдет Красная Армия. Моя рота должна была отправить весь автотранспорт в тыл на запад, оставив при себе несколько танков.
Несмотря на то, что моторы танков не останавливались ни на секунду, это никоим образом не могло спасти нас от ужасного русского мороза. Было очень спокойно и тихо в этом маленьком кавказском городишке. Мы прошли через него буквально за пару часов…
Как раз в самый канун Рождества, я приказал ротному повару, чтобы каждый солдат в этот вечер получил поджаренную колбаску. Повар очень постарался, и это угощение ему очень неплохо удалось. Потом наступила полночь. Сначала к танкам подтянулось наше боевое охранение. А через некоторое время на воздух взлетели все мосты, которые там были. Мы совершенно спокойно подготовили их к взрыву, а затем подорвали.
Наконец мы дождались саперов, забрались на танки и двинулись на запад. Под утро, на этом варварском холоде, мы приехали в разрушенный kolhoz, возле которого стояли большие стога сена. У нас ничего с собой не было - поэтому сено стало для нас тем единственным, чем мы смогли защититься от этого проклятого холода. Однако, невзирая на трудности, нужно было на какое-то время остановить русских, и я организовал на холме некоторое подобие обороны.
На рассвете утром 25 декабря из населенного пункта, в котором мы взорвали мосты, появилось несколько советских танков. Мы прекрасно видели их с нашей позиции на вершине холма. Двигаться средь бела дня, прямо на высоту, на которой стоят танки противника - несусветная глупость. Бой продолжался недолго. Так, в первый день Рождества мы подбили все русские танки. Ни один из них не ушел!
Наша рота, не имея от командования дальнейших приказаний, двинулась к опорному пункту, где нас дожидались наш обоз и кухня. Предполагалось, что там уже все готово к нашему прибытию, так как я дал им перед отправкой соответствующий приказ. Нас ожидала свежая почта из дома, сигареты, маркитантская лавка, получаемые каждой ротой раз в месяц 5 или 7 бутылок шнапса. Шнапс по традиции распределял командир роты, но в этот раз я приказал, чтобы эти товары не распределяли до Рождества, а сохранили до нашего приезда.
На второй день Рождества, 26 декабря у нас состоялся прекрасный праздник. Мы очень хорошо разместились на новом месте. Хочу сказать, что нас очень хорошо принимали те люди, жившие на Кавказе - они все были нам очень рады.
Наконец у меня появилась возможность принять ванну, нормально побриться, просмотреть свежую почту. Все мои солдаты тоже смогли помыться и привести себя в порядок. После этого раздали маркитантские товары, и началось настоящее празднование старого доброго Рождества. Я переходил от одного взвода к другому. Везде меня громко приветствовали, наливали в мою кружку шнапс, а когда праздник закончился, я тут же заснул. Тот день я помню очень хорошо. Это было настоящее Рождество, и ТАК отпраздновать его на войне удалось только один раз.
- Сосиски были?
- Да, мы их получили. Я не знаю, почему в тот раз все так хорошо получилось. Надо сказать, что наши работники кухни были очень находчивы. Но временами и к нам приходила большая нужда. Зимой 1942 года снабжение продуктами было плохим. А весной оно стало еще хуже. Вначале 1942-го нам как-то выдали фрикадельки. Когда мы их бросали об землю, они подпрыгивали обратно - в общем, мы голодали. Было совсем не так, как на Рождество 1942-го года.
- Ветераны рассказывают, что замерший хлеб рубили топором.
- Нет, я такого не припомню. Обычно мы не хранили хлеб снаружи, там, где он мог замерзнуть, а всегда держали его где-то внутри. Но вполне возможно, что моя порция хлеба, хранившаяся в хлебном мешке, могла замерзнуть.
- Как Вы одевались на фронте, и что носили с собой?
-
Вот
так же, как на этой фотографии. С собой
я всегда носил пистолет, а во время боя
брал пистолет-пулемет или карабин - по
обстоятельствам. Правда, я должен был
руководить, а не стрелять. Командир роты
обычно стрелять вообще не должен. Но
когда вокруг меня уже никого не оставалось,
то приходилось и пострелять. А такое у
меня случалось не раз! Мне довелось
стрелять из пистолета-пулемета прямо
с броневика. А помнится, в Венгрии я
вообще остался один против сорока
русских. Я оказался на совещании недалеко
от Бергонта. Представьте себе, в подвале
вокзала идет совещание, на нем присутствует
командир полка и прочие. Вдруг начинается
артиллерийский обстрел, на площади
появляются русские, - и как это у них
водится, на здание вокзала нацеливается
острие советского наступления.

Вокруг тут же разворачивается полный хаос. Связи с моей ротой у меня не нет. Я стою один возле горящего танка и пытаюсь понять, как вокруг развиваются события. Надо что-то делать! Мне нужно найти способ установить связь с моей ротой. В этой ситуации мне пришлось стрелять самому. Я расстрелял все патроны к моему пистолету-пулемету, но все-таки смог прорваться к своим и установить связь с одной частью. А вокзал мы отбили обратно!
- Расскажите, пожалуйста, про структуру саперной роты. Сколько в ней было взводов?
- Рота состояла из трех взводов, ротного отделения, ремонтного отделения, шанцевого отделения и отделения снабжения. Ротное отделение - это его командир (обычно фельдфебель, но мой был унтер-офицером) и плюс три ротных посыльных на мотоциклах БМВ. Взвод состоял из трех отделений. На каждое отделение - один грузовик. Помню, что в этих грузовиках сбоку укладывались противотанковые мины, которые назывались «мины-тарелки» или «Т-мины».
Как-то раз под Владикавказом прямо перед позициями пехоты мы ночью установили большое минное поле, на которое утром заехали русские танки и все там остались.
В общем, у нас были мины, ящики с различной взрывчаткой, взрыватели, на каждое отделение по бензопиле, миноискатели, - сколько не помню… Что же еще? Разумеется, обоз и полевая кухня. Еще у каждого взвода был четвертый грузовик с огнеметами. Эти тяжелые емкости с системой зажигания носили на спине.
Еще припоминаю грузовик со специальными станками, необходимыми для ремонта, очень ценными и дорогими. Еще имелся один грузовик, на котором перевозили горючее - бензин в канистрах. Еще один - для оружейника. И наконец, последний - для фельдфебеля и двух механиков, которые ремонтировали автомобили.
Еще в роте были резиновые лодки, из которых можно строить платформу, а на нее установить механизм для забивки свай. Но даже когда я принял батальон, там не было такой техники. А уж когда я принимал роту, то тем более. Мы ими не пользовались, и к тому же я в них не разбирался. Такой техникой нелегко управлять. Для этого требуется специальный курс обучения - «Строительство мостов на сваях».
- Сколько человек в роте?
- Примерно сто человек. Давайте посчитаем! Восьмью три - максимум 25. Еще раз на три, и, получается, по 75 в основных отделениях. Плюс ротное отделение, плюс шанцевое отделение, полевая кухня и снабжение - итого около ста.
- Связь была по телефону или больше по радио?
- У нас не было ни того, ни другого. Летом на Кавказе, в июле, моя рота в результате понесенных потерь остро нуждалась в пополнении. Мы стояли в тылу и ожидали переформировки. Вот там-то мы и получили рации. Но я не смог их использовать, потому что они не работали. Сегодня, конечно, это не проблема. Сейчас чуть ли не у каждого солдата есть рация. Но тогда нам привезли бесполезный груз. А вот в артиллерии были очень неплохие рации. И телефон в нашей роте не использовался.
- Как же осуществлялась связь с батальоном?
- В батальоне имелся свой полувзвод связи. У них была радиовышка и хорошая аппаратура. Связь с ротами устанавливалась непосредственно из батальона. По мере надобности батальонное начальство посылало в роту отделение с рацией, и таким образом осуществлялась связь между батальоном и ротой.
Но когда я принял батальон, это могло происходить как-то по-иному, потому что на тот момент мы были уже не так хорошо укомплектованы.
- Формировались ли штурмовые группы из саперов?
- Это зависело от метода организации атаки. Обычно для поддержки пехоты направляли одну роту. Она получала задание сформировать штурмовые группы с огнеметами. Я помню атаку на берегах Терека, которую мы предприняли в конечном пункте нашего наступления на Баку - Грозный. Тогда мой третий взвод стал штурмовой группой. А повел его лейтенант Хольм, командир этого взвода. Черт возьми, это был самый крайний пункт нашего продвижения! Я сам участвовал в атаке в последний день наступления, и когда он закончился, пришло донесение, что лейтенант Хольм погиб. Возник вопрос с поисками тела – ведь парня надо было похоронить.
На следующий день в бой ввели пехотный батальон из полка «Германия», но и они ничего не смогли добиться. Советы отчаянно защищались, вкопали в землю свои танки и полностью контролировали местность. Получилось так, что относительно безопасно в этот батальон с наших позиций можно было пройти только ночью или в тумане. А у меня к ним появилось какое-то дело. Утром я туда к ним пошел, и в тумане случайно наткнулся труп в маскировочной куртке, какие носят в Ваффен СС. Это и был мой лейтенант…
Еще пару моментов в продолжение рассказанного эпизода. В 1992-м вместе с группой немецких туристов я посетил населенный пункт Малгобек. Нас тогда лично встретил и сопровождал сам бургомистр. На автобусе мы поехали по окрестностям и нашли то место, где погиб лейтенант Хольм, и где мой взвод был в бою. Там сейчас стоит памятник, на котором написано, что здесь советские солдаты сражались с фашистами и все такое прочее - в общем, как обычно. Возле него наш автобус и машина бургомистра остановились, и мы, немцы, смогли там все осмотреть. Когда же все вернулись, бургомистр сказал нам: «Итак, господа, вы приглашены на небольшое угощение. Сейчас мы вернемся в Малгобек».
Нас пригласили в дом культуры. Мы подъехали к нему на машинах и там вместе с хозяевами сидели два или три часа, праздновали, и стали большими друзьями. За столом они рассказывали нам, что от деревни после войны осталась только половина, и ту пришлось отстраивать заново, потому что дома рушились. Вот такой, спустя много лет, я увидел крайнюю точку нашего наступления…
Мои три взвода обычно распределялись командиром батальона для поддержки различных подразделений. Как-то я пришел проверить один из моих взводов. Они расположились на позиции, только что отбитой у советской пехоты. Враг находился неподалеку, и хотя мы его не видели, он, конечно же, незримо присутствовал. Все это мне совершенно не понравилось - русские окопы, в которых сидел мой взвод, были развернуты в другую сторону. Я немедленно приказал им перестроить хотя бы один окоп, объяснив при этом, что если русские вдруг появятся, то мы не сможем нормально защищаться. И надо же, произошло именно так, как я сказал: на склоне холма появился русский танк и выстрелил по нашей оборонительной точке. Я закричал: «Немедленно выскакивайте отсюда!»
Мы отступили. Затем я, с моими посыльными, добрался до соседней высоты, и немедленно приказал идти в контратаку. Мы снова пошли на штурм этой старой позиции. И тут нас накрыла наша же собственная артиллерия! Связи у меня не было, а наши артиллеристы совершенно не ожидали, что мы немедленно пойдем в контратаку. Слава богу, там был песок, и они стреляли большим калибром. Я с командиром отделения успел спрятаться в окопе. Врага, конечно, мы выбили. Но одного из моих лучших солдат, огнемётчика, ранило в голову осколком артиллерийского снаряда. Ему разворотило лицо, нос был задран как-то кверху – все выглядело ужасно. Слава богу, он выжил. Я узнал об этом, когда он прислал мне поздравительную открытку. Вот так нас остановила собственная артиллерия.
- Штурмовые группы формировались из добровольцев или просто повзводно?
- Это звучало примерно так: «3-е отделение, 8-е отделение! Проверить снаряжение, огнеметы готовь! Вперед!»
Никто не интересовался, есть ли у них желание идти в атаку, или такового не имеется. Если один из моих взводов подчиняли пехоте для поддержки, то с ним должен был находиться его командир. Обычно связь с ним отсутствовала, поэтому он там командовал самостоятельно.
- Огнемет - опасное оружие для самого огнеметчика. Насколько охотно их использовали?
- Огнемет я не считаю хорошим оружием. Эти ранцы были очень тяжелые. Поэтому огнемётчики были сильно перегружены. Отнести, установить, зажечь, - да еще и противник рядом! Это слишком сложно. Мое мнение, что это оборудование было непригодным.
Сейчас в Бундесвере саперов больше не используют в качестве обычной пехоты. А вот нас, саперов Вермахта, использовали в виде штурмовых групп, потому что мы умели обращаться с взрывчаткой, могли уничтожить препятствия, пробить коридор, а потом ворваться в окопы с огнеметами и ручными гранатами.
Еще один неприятный момент - в огнеметчика очень легко попасть. Поэтому первые выстрелы всегда доставались ему. Быть огнеметчиком слишком опасно, и я все время думал, что без огнеметов воевать гораздо лучше.
В Малгобеке я пару раз посылал в атаку взвода́ огнеметчиков, но подробностей и результатов боя не знал. В первый раз все прошло относительно хорошо. А во второй все получилось несколько сложнее.
[6 октября дивизия СС «Викинг» захватила Малгобек, однако цель - захват Грозного и открытие дороги к Каспийскому морю не была достигнута. Самый близкий пункт к городу Грозному - высота 701 - был захвачен финским добровольческим батальоном СС «Нордост». Во время этих боев дивизия СС «Викинг» потеряла более 1 500 человек].
15 октября рота снова попыталась прорвать оборону русских. В штабе 1-го батальона «Германии» прошло совещание, на котором я получил приказ начать атаку. На этом совещании присутствовал командир танковой роты и генерал. Командир нашего батальона был неплохим парнем. Его звали Дикман. Он объяснял генералу, что мы в любом случае попробуем взять высоту 750, но мы слишком слабы, и наступление снова будет стоить нам определенных потерь, - потерь солдат, нужных в обороне. Разумеется, мы попробуем атаковать, но после этого обороняться уже будет некому. Тогда генерал ответил: «Я принимаю Ваши аргументы, но мы в любом случае должны атаковать и принести эти жертвы. Кто-то должен это сделать, и это будете вы». И командир батальона не стал протестовать, а как ему было положено, щелкнул каблуками и рявкнул: «Яволь!»
На моем участке все прошло без каких-либо трудностей. Ночью в темноте вместе с батальоном пехоты мы атаковали русских и достигли высоты. Нашими соседями справа оказались финны – у них так же не наблюдалось особых проблем. А вот 3-му батальону «Германии», нашему левому соседу, повезло меньше – русские его полностью уничтожили. Погибли все командиры рот! Мой друг, командир роты, тоже погиб. Это ужасно! Целый батальон был расстрелян, и все были мертвы…
Когда мы достигли высоты, а это произошло 15 октября, пошел дождь. Мы сидели на корточках в окопах и с трудом отбивали массированные атаки русских. Время от времени нами проводились контратаки, финны в них были особенно хороши.
[С августа 1941 г. по май 1943 г. в составе дивизии СС «Викинг» находился финский добровольческий батальон СС «Нордост», сформированный в июне 1941 г. В нем было 834 финских добровольца под командой своих собственных офицеров].
После захвата высоты, еще ночью, мы вырыли там окопы: для меня и для боевого охранения, а чуть позади - для ротного отделения, посыльных и санитаров. Снова подошли Советы и постоянно атаковали. Но тщетно. Мой австрийский пулеметчик господствовал над местностью! Я держал постоянную телефонную связь с командиром батальона, которому меня подчинили. Он меня все время спрашивал: «Как положение? Что русские?», - «Я на высоте, обороняюсь, веду бой», - «Этого не может быть! Где они?»
Оказалось, у него не было информации. Поэтому он думал, что Советы прорвались и они уже на высоте. Он снова и снова переспрашивал меня! Я ему заорал в трубку: «Черт возьми, да я здесь!»
Потом, помню, я рванул направо к моему финскому соседу. Из-за этих разговоров я уже начал сомневаться - а не остался ли я один, и вдруг все мои соседи уже ушли?
Я добирался до их позиций под обстрелом, прыжками-перебежками, и это оказалось очень не простым занятием. Их командир, тоже финн, был моим другом. Он так же как и я сидел в окопе на корточках. Подбежав к нему, я лег сверху над его окопом и спросил: «Карл-Хайнц, как у тебя дела?» На что он, в несколько флегматичной манере, ответил: «Все хорошо, приглашаю тебя спуститься ко мне в окоп». Я был очень возбужден, а он - очень спокоен. Мой друг похлопал меня по плечу, а затем достал флягу – «Давай, сначала выпей, а потом поговорим». Мы посидели у него в окопе, выпили водки, он меня проинформировал, что у них все хорошо, они держатся, проблем нет…
Мой командир взвода попытался выскочить из окопа и тут же получил пулю в грудь - сквозное пулевое ранение легкого! Он вскрикнул, упал обратно в окоп и стал докладывать мне, командиру роты, о только что полученном ранении. Представьте себе, совсем маленький окоп, в котором я сижу на корточках, и не один, а вместе с ротным отделением. И тут он падает буквально мне на руки… Разумеется, мы вызвали санитаров. Этот взводный лежал практически у меня на коленях, и я помогал его перевязывать.
Раненого погрузили в коляску мотоцикла БМВ моего посыльного. Теперь появилась проблема, как попасть в санчасть? Получилось так, что дорога в тыл шла через гребень холма, и стоило там кому-либо появиться, по нему тут же стрелял русский танк. Это означало, что мотоцикл нужно остановить где-то на склоне, дождаться выстрела, а затем попытаться проскочить до того как танк снова выстрелит. Пушка не стреляет как пулемет, и этот интервал можно поймать. Русские поставили нас перед серьезной проблемой, но мы ее решили. Тому посыльному удалось проскочить. А мы опять сидели в окопах под непрерывным обстрелом. Целый день шел дождь. Люди нервничали. А по телефону звучала старая песня: «Ну как там у вас положение? Ну как там у вас положение?» - «Да идите вы в жопу с вашим положением!»
В тот день кроме того фельдфебеля у нас больше потерь не было. Хорошо получилось…
- Кто командовал у финнов? Немецкие офицеры или финские?
- По-разному. В 1941-м году в каждой роте был как минимум один финский офицер. А у соседних со мной финнов командиром роты числился немец. Помню еще одного немца, с которым мы дружили. Он потом погиб, и мне кажется, что его заменили финном. В принципе, среди финнов офицеры встречались довольно часто - в отличие от тех же эстонцев, у которых своих офицеров не имелось.
- Насколько тяжело было разминировать советские минные поля?
- Я помню только одно. В 1941 году мы вышли к заминированной дороге, которая проходила через минное поле. Его было нетрудно обнаружить, - впрочем, так же как и немецкие минные поля. Мины, по моему опыту службы в Вермахте и Бундесвере, нельзя спрятать. Если закапывать их в землю, всегда остаются следы. Полностью замаскировать невозможно. Не получается!
Однако как-то раз в степи загорелся большой склад кукурузы, в котором мы прятались. Подходы к нему были заминированы. Один финский офицер наступил на мину, и потерял ногу. Мне пришлось посылать туда взвод разминирования. Они начали работать, а в это время наш врач занялся раненым финном. Мои весельчаки не преминули сообщить ему, что он находится прямо в середине минного поля. Врач потом мне рассказывал, что те ощущения ему очень не понравились.
Минное поле мы расчистили без проблем. Но на примере нашего врача можно видеть, что мины кроме своего непосредственного предназначения оказывали еще и психологическое воздействие. Они всегда останавливают наступление! Если есть мины, то их сначала надо убрать. Получается, что даже если их видно, они все равно дают тормозящий эффект. Но если у вас есть время, их всегда можно обезвредить.
Помню такой взрыватель, который срабатывал, если мину поднимали. Но это такая длинная история, пока ты такую мину подготовишь… Поэтому получается, что устанавливать таким образом каждую противотанковую мину нецелесообразно. А когда я вспоминаю ночную установку мин под Владикавказом, то понимаю, что «неизвлекаемую» мину ночью вообще невозможно поставить. То есть на практике такие мины-ловушки срабатывали только в единичных случаях.
Поначалу обнаруженные мины мы старались подрывать. Для этого у нас были подготовлены 100-граммовые тротиловые шашки, с запалом длиной в 10 сантиметров, которыми мы взрывали каждую мину. Трижды мы так делали, потом нам это показалось слишком трудоемким, и мы это прекратили. У меня не произошло ни единого случая, чтобы кто-то погиб при разминировании! Хотя как-то раз приключилась одна ужасная история - очень неприятный несчастный случай с минами недалеко от Туапсе.
Как обычно, «Викинг» находился на острие наступления. Мы подошли к месту, где дорога поворачивала на Туапсе. Там встал вопрос – «Куда двигаться дальше?» Мы хотели пробиваться дальше на Туапсе, но командование сказало: «Нет, это горы, и туда пойдут горные части». Конечно, для боев в горах нас не готовили, поэтому присутствовал определенный риск. Уже только после войны стало понятным, что если бы мы пошли дальше в горы, то взяли бы Туапсе, и это было бы большим успехом. Но мы остались стоять и не пошли дальше. В связи с этим, я вместе со своей ротой остался между Майкопом и Туапсе в районе Neftenaja. [Вероятно - поселок Нефтяная, Апшеронский район Краснодарского края. 60 км от Майкопа]
В наш батальон на велосипедах приехала разведывательная рота егерской дивизии. Обычно они передвигались пешком, и это показалось мне странным. Оказалось, они передавали свои позиции нам, танковым гренадерам. Это уже было странно вдвойне!
Их позиция находилась в лесу у Белой Глины. [Видимо неточно. Это в 370 км от Нефтяной!] Прямо посередине леса стояла хижина, а вокруг этой хижины расположились окопы. Ближайший населенный пункт находился в 5 километрах, его занимали Советы. Мы тогда были неплохо оснащены: у нас было 12 пулеметов - на каждое отделение по пулемету, а также мины и все остальное. Я организовал круговую оборону позиции с минами и заграждениями. Мины ставились с растяжками на колючей проволоке. Советским штурмовым группам пройти там было практически невозможно – мы сделали все очень хорошо!
В тех местах не существовало дорог. На нашу позицию вела извилистая лесная тропинка, по которой обычный автотранспорт проехать не мог. Все необходимое нам приходилось заказывать по рации, и только через два дня мы получали снабжение и продукты с помощью легких гусеничных машин из батальона противовоздушной обороны. Это такие легкие тягачи, которые возили зенитки.
Вспоминается один случай, когда по дороге на них напали. Русские устроили засаду в подлеске. Когда машины проезжали мимо, они закидали их ручными гранатами, потом произошел короткий огневой бой. У меня в резерве имелся один взвод, и как только нам об этом сообщили, то мы немедленно выдвинулись на помощь. Но русские уже исчезли.
После этого случая, обычно по ночам, нас стали посещать их разведывательные группы. Им даже удавалось пройти через колючую проволоку с растяжками. Советские солдаты ночью каким-то образом перерезали растяжки и проходили - мы потом это обнаруживали при контроле. Я даже сейчас не могу сказать, как можно так ловко обезвредить взрыватели. До сих пор ни как не пойму, как же они ночью находили заряд? Там что-то было не так! В любом случае, такую систему с колючей проволокой на растяжках мы использовали только один или два раза.
На этой лесной поляне мы чувствовали себя очень уверенно. Особенно в ее середине, в большом хорошо укрытом блиндаже. Когда начинался артиллерийский обстрел, там мы себя ощущали в полной безопасности. По ночам я сидел в блиндаже с солдатами, которые не были заняты по службе. Мы пили красное вино и пели. Особенно хорошо пел приезжавший к нам со снабжением голландец из батальона противовоздушной обороны. Он позже стал офицером.
Бывало, мы слышали на постах звук выстрела. Разумеется, все сразу хватали оружие и выскакивали. Так как позиции растянулись на приличное расстояние, мне приходилось кричать: «Что там у вас? Это русские?» И если все было спокойно, мы возвращались обратно.
Как-то раз я лично возглавил отделение и пошел в разведку: прихватил два пулемета и вызвал нашего переводчика, который отличался плохой дисциплиной, но прекрасно действовал в бою. Он говорил по-русски не свободно, но достаточно. Мы прошли через лес, и вышли на опушку, к деревне. Там я увидел русских с их лошадями или ослами. Они что-то перегружали. Мы спрятались в садовых кустах. Перед нами виднелся опрятный дом с балконом. Возле дома я увидел двух советских солдат, которые чистили оружие. Мне это показалось интересным, и я наблюдал за ними просто любопытства, без какой-либо определенной цели. Должен сказать, что то, что я тогда делал, не казалось мне чем-то важным. Потом солдаты исчезли, а вместо них появились две девушки, и сели перед домом. Стоял август или сентябрь, пригревало солнце, девушки о чем-то щебетали… Но тут они увидели в кустах нас и закричали! Я дал команду отходить. Русские подняли тревогу, но мы быстро исчезли.
Потом командование решило нас заменить. И вот тогда и произошёл этот ужасный случай с минами. На смену нам пришла свежая рота, полностью укомплектованная. Они шли с ручными гранатами в сумках, а не в обозе, как будто им прямо сейчас идти в ближний бой. Они попытались сходу пройти к нам за периметр, и кто-то задел растяжку. Как минимум двое из них погибли прямо на месте. А я ведь своим специально приказал, ещё до того, как пришла смена: «Следите, показывайте им, где растяжки». Но случилось то, что случилось…
1 марта закончилось наступление, мы стояли на Донце. Потом расположились в населенном пункте возле дороги, ведущей на Харьков. Там, вдоль Донца, еще такие живописные холмы… Я получил приказ разведать, не заняты ли эти холмы врагом. Наш командир отделения разведки оказался большим шутником. На одной из высот он оставил русским послание – «Поцелуйте нас в жопу». Он подумал, что если сейчас там и свободно, то потом Советы придут обязательно и прочитают. Хм, очень весело… Ну, хорошо. На следующий день, моя рота уже стояла перед этой высотой. Пришел генерал Штайнер, и я доложил ему, что у меня есть намерение, поскольку враг здесь отступает, занять эту высоту своей ротой и это для меня не проблема. Штейнер не согласился и приказал: «Оставьте это! Это не нужно. Мы разбили врага, в этом нет необходимости», – «Хорошо».
Штайнер уехал, - а я все-таки решил ее занять. К нам присоединился один бодрый военный корреспондент, который хотел видеть, как моя рота занимает эту высоту. Меня же волновал один вопрос - будут ли на высоте русские? На склоне я остановил колонну и приказал развернуться в боевой порядок, а сам вместе с военным корреспондентом и моим адъютантом просто продолжил маршировать по дороге. Вдруг сверху по нам ударили из пулемета. Мы спрятались в укрытие и движение остановилось. Слава богу, никого не задело. В этот раз я действительно ошибся. Но ведь высоту все-таки можно взять! Но пока я размышлял, как это лучше всего сделать, русские исчезли, и это перестало быть проблемой.
Захват высоты происходил 1 марта, а 23-го я получил Немецкий Крест в золоте. Этот орден вручался при условии пятикратного награждения Железным Крестом 1-й степени. Но на практике так было не всегда. Как-то я решил проверить, сколько раз меня представляли на железный крест. Получалось, что несколько раз за Миус, пару раз за Терек и один раз за калмыцкие степи. В общем, если подумать, то набирается примерно пять раз.
- Немецким Крестом в золоте могли наградить за совокупные заслуги?
- На практике получилось, что да. Понимаете, если кто-то три года подряд не вылезает из боев, снова и снова идет в атаку, то этот кто-то его обязательно получит.
- Каким было прозвище у этой награды?
- «Яичница» или «Партийный значок для близоруких». На нем была изображена слишком большая свастика. Крест в золоте не особенно любили, он считался не самым красивым орденом.
- Но, не смотря на это, орден считался престижным?
- Да, определенный престиж он имел. Сегодня я отношусь к этому ордену с уважением. Если учитывать, что получил я его уже в 1943-м, при этом воюя в Ваффен СС, то испытал я предостаточно. Все эти годы я пробыл на фронте. Домой приезжал только в отпуск. Меня никогда не давали командировок на родину.
- Харьков, март 1943-го года. Что можете рассказать о том периоде?
- Мы не были в самом Харькове. Там воевал «Дас Райх», а мы мы в то время штурмовали Красноармейское. [В мае 1943 г. 5-я СС-панцергренадерская дивизия «Викинг» была отведена с фронта на отдых и восстановление. Некоторые подразделения дивизии в этот период принимали участие в незначительных стычках с партизанами] Когда мы в него вошли, то в Гришино обнаружили убитых пленных, среди них оказалось несколько женщин, у которых были отрезаны груди. [Гришино - северная окраина Красноармейского] Русские солдаты убили нескольких медсестер германского Красного Креста. Этот отвратительный факт получил международную огласку.
[В ЖБД 7-й танковой дивизии есть запись от 18.02.43 г., сделанная сразу по занятии города, в которой говорится об обнаружении обезображенных трупов и выживших немецких военнопленных. Имеется так же допрос лейтенанта Владимира Сорокина, 19 лет, командира зенбатр 14-й гв.тбр, в котором тот действительно утверждает, что немецкие пленные, в том числе гражданские лица, были расстреляны по приказу полит.руководства бригады во время прорыва немецких войск в Красноармейское.
Так же известно, что в ходе боев за город пленные захватывались в ощутимом количестве (например, одна 9-я гв.тбр захватила 110 пленных), но что с ними стало к моменту оставления города - не указывается.
Немецкий историк Joachim Hoffmann в книге Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945 утверждает, что в Гришино с 11 по 18 февраля 1943 года, было найдено около 600 убитых военнослужащих Вермахта и союзных ему армий, а также служащих сопровождающих подразделений, включая сестер Красного Креста и связисток вспомогательных служб. Однако в первичных документах эти цифры пока не найдены]
Это сделала группа Попова, которая в феврале прорвала фронт и вышла к железной дороге в районе Красноармейского. Они взяли в плен не только немецких солдат, но и простых служащих, рабочих, медсестер. Пожалуй, это самое худшее из того, что я видел на войне, не считая котла в Черкассах, когда наших раненых давили танками. Русские танкисты с разгона врезались прямо в колонну, и давили гусеницами беззащитных людей. У меня до сих пор мурашки по коже от этого ужаса.
Потом нам на смену пришел батальон «Вестланд». Нас же отправили в Лозовую, где проводилась полная переформировка. Там меня сменили. Затем в феврале шло контрнаступление Манштейна, известное и очень успешное, в результате которого взяли Харьков. Его прекратили по приказу Гитлера, была тогда такая проблема. Тогда же сместили Хауссера. [нем. Paul Hausser. Общеизвестно, Гитлер категорически запретил оставлять Харьков. Хауссер открыто ослушался Гитлера, вывел войска из города, чтобы избежать окружения. За невыполнение приказа Гитлер задержал уже одобренное присвоение Хауссеру знака Дубовых листьев к его Рыцарскому кресту до июля 1943 года]
Нас перевели из Лозовой на север в сторону Белгорода. Это должно было стать подготовкой к наступлению под Курском, но нас почему-то отправили обратно назад. Потом последовало возвращение и наступление на Изюм. Я тогда был наказан и поэтому в этих боях не участвовал. А эстонцы из «Нарвы» там поучаствовали достаточно, у них даже погиб командир. Это, должно быть, был июль…
- У вас были только немцы, или же присутствовали еще и иностранцы?
- В моей роте тогда иностранцев не числилось. Иностранцы были только в пехотных полках. Примерно с 1943-го года у меня появились голландцы, но я не помню сколько человек.
- Они говорили по-немецки?
- Во-первых, я сам немного говорю по-голландски. К тому же моя первая жена из Голландии. Во-вторых, они очень хорошо знали немецкие команды. Смешно стало потом, когда у меня появилась эстонская рота.
- Вы все еще были командиром саперной роты?
- Нет. Меня сместили и наказали, и так я оказался у эстонцев. Это произошло незадолго до Курской битвы. У нас появился новый командир, я стал его заместителем. Мы друг друга не понимали. Я бы не хотел особо об этом распространяться. Я немного выпил, и он назвал меня дураком, - просто чтобы сделать себя на моем фоне более важным. На что я ему сказал: «Закажите себе картину, как вы целуете меня в задницу».
Мне еще повезло, что меня наказали в административном порядке, и не отдали под суд! Этого не произошло, потому что у меня уже был Немецкий Крест. Меня просто отправили командовать эстонской ротой. Сегодня я думаю, что командовать ими было для меня интересным заданием, но тогда это для меня оказалось непросто. Я не знал, получится ли у меня это вообще, но эстонцы на удивление очень быстро начали меня слушаться.
[В июле 1943 г. в состав 5-й СС-панцергренадерской дивизии «Викинг» был включен эстонский добровольческий панцергренадерский батальон СС «Нарва». В июле 1944 г. он был исключен из состава дивизии и передан 20-й гренадерской дивизии СС – 1-й эстонской (20. Grenadier-Division der Waffen-SS – estnische Nr.1)]
Эстонцы по-немецки не говорили, но кое-какие команды они знали. Когда я им что-то приказывал, они понимали. Но, несмотря на это, иногда случались нехорошие ситуации. С принятием командования над 2-й ротой эстонского добровольческого батальона СС "Нарва" передо мной была поставлена задача, за которую в нормальных условиях по собственному желанию тогда не взялся бы ни один офицер. Да и в сегодняшнем НАТО, кстати, тоже. Нужно было ввести в тяжелейшие бои иностранных солдат, без какого-либо привыкания и адаптации в мирных условиях.
Учиться предстояло на собственном опыте. Но на фронте для теоретических размышлений и даже для какого-либо обучения не было ни времени, ни возможности. Для этого необходима интенсивная практика. Нас же безжалостно бросили в бой, потому что этого требовало положение на фронте. Справиться с подобной ситуацией можно было лишь только в том случае, если между руководством и подчиненными существовали непоколебимые взаимные доверительные отношения. И между людьми таких различных народов как немцы и эстонцы они действительно возникли и существовали.
Это происходило благодаря симпатичной открытой сердечности людей с Балтики, для которой у них часто не было разумных оснований, - и нашим общим анти-большевистким настроениям, которые также сыграли большую роль.
Они часто радовали меня своим пением. Особенно был хорош один из них, дояр по профессии, который мастерски играл на мандолине. Если имелся алкоголь, эстонцы охотно утоляли им жажду. Иногда они неистово качали меня и подбрасывали в воздух, чтобы таким способом выразить мне свое расположение. Пусть это было грубо, но зато вполне искренне.
Командирами взводов, отделений, и радистами были в основном немцы, это было необходимым для поддержания боеспособности роты. Среди них выделялся командир 1-го взвода унтерштурмфюрер Хандо Руус: насколько я знал, он раньше был лейтенантом резерва эстонской армии.
Но большая часть роты состояла именно из эстонцев, из которых очень немногие говорили по-немецки. Одним из говоривших по-немецки был мой посыльный: интеллигентный, образованный молодой человек, который, к сожалению, погиб несколько недель спустя. А я хотел отправить его учиться на офицера. Да и вообще всегда были один или два эстонца, которые знали немецкий.
А когда я туда приехал после войны, там уже никто не мог говорить по-немецки. Они все забыли, и могли только поздороваться и знали названия сигаретных марок.
- Как вы оцениваете эстонцев как солдат?
- Нормальные ребята, по-своему смелые. Дело в том, что они были очень сильно настроены против большевиков. Очень сильно! Можно сказать - фанатично. Я их поспрашивал: у одного отец умер в Сибири, у второго - мать, у третьего - сестра. Это являлось достаточно сильной мотивацией.
- Они хотели мстить?
- Ну, да. Они очень любили стрелять без приказа. Это строго запрещалось, но за этим постоянно приходилось следить. Они страдали отсутствием дисциплины. Понимаете, их постоянно приходилось контролировать. Один раз во время отступления я видел, как они во время движения стреляли в кого-то прямо из кузова грузовика. Я остановил колонну и им сказал, что это категорически запрещено, и я не хочу этого больше видеть!
Наконец представилась хорошая возможность с ними поговорить. Я их ссадил с машины и потребовал объяснений. Они мне начали объяснять: «Командир роты, Вы понимаете…, у нас у всех…, мы…, наши родственники…, пережили ужасное во время советской оккупации».
Но я должен был заставить их слушаться, и они должны были меня слушаться. Трудно представить себе ситуацию, когда они сами начнут решать, когда им стрелять, а когда воздерживаться!
- Можно ли сказать, что пленных они не брали?
- Нет, так нельзя сказать. Мною такого не позволялось. Эстонские солдаты должны были подчиниться правилам солдатского распорядка, который казался им чуждым и, разумеется, непонятным. Немецкое начальство боролось с их поведением, которое имело мало общего с нашими понятиями о дисциплине. Конечно, часто речь шла только о внешних проявлениях, которым в гражданской жизни придается мало значения, но которые очень важны на военной службе. Это были формы внешней дисциплины, которые являются основой дисциплины внутренней, и которые ограничивают инстинкты, такие как расхлябанность и слабость.
Воспитанный в старых традициях немецкий солдат показал такие достижения, которые признаются во всем мире. Я не хочу скрывать того, что были трудности с тем, чтобы уничтожить внутренние неформальные структуры в этой части. Весьма строптиво эстонские товарищи относились вне боя к грубым приказам. Но в бою такого они себе никогда не позволяли. Их готовность к бою была похвальной, храбрость являлась их отличительным знаком.
В июле 1943 года на Донце южнее Изюма эстонский батальон "Нарва" превосходно проявил себя как в обороне, так и в наступлении. То, что они показали в ближнем бою - против танков и без фаустпатронов! - до того такое едва ли видели в нашей дивизии, и это вызвало уважение к ним.
Уважаемый и любимый всеми командир, штурмбанфюрер Эберхардт, был тяжело ранен. Он не верил в то, что сможет полноценно жить с таким ранением, и поэтому покончил жизнь самоубийством, перед этим написав в докладе: «Надеюсь, "Нарва" выдержит!»
Зная об их достижениях, я весьма скептически рассматривал эстонцев 2-й роты, построившихся на каком-то украинском поле. Тогда я принял командование как преемник оберштурмфюрера Бургдорфа и обратился к ним с короткой речью. Мне показалось, что они удовлетворены видом моих боевых наград, которые доказывали, что я опытный фронтовой солдат.
- Как они показали себя в первом бою?
- После битвы под Курском Советы с новыми, большими силами прорвались на широком фронте севернее Харькова и угрожали зайти в тыл нашей группы армий. 5-я танково-гренадерская дивизия СС «Викинг» должна была быть брошена в бой против врага.
Во время этого опасного кризиса был задействован и батальон «Нарва». 2-я рота, которая была подчинена танково-гренадерскому полку «Германия», должна была поддержать атаку его 2-го, а так же танкового батальонов. Целью атаки являлось Кленовое, примерно в 10 километрах восточнее Богодухова.
Случилось так, что меня трижды обстреливали эстонцы моей роты. И в первый раз это произошло именно в эти дни. Днем шли бои, а ночью пришлось отступать, и поэтому мы не спали больше суток. Все чрезвычайно устали, но, несмотря на это, надо было окапываться, чтобы следующей день встретить готовым к обороне. Приходилось их постоянно контролировать, потому что все падали от усталости. Я стоял возле них, и говорил: «Вы должны окопаться! Если утром атакуют танки, у вас не будет защиты». Когда я убедился, что все в порядке, то вместе с посыльным пошел на соседнюю позицию. Я хотел проконтролировать все ли в порядке. Я взял с собой своего молодого посыльного, и мы с ним медленно шли: прошли 100, 200, 300 метров. И тут мне подумалось, - а не оказались ли мы у русских?
Уже рассветало, вдруг я услышал, как кто-то рядом заряжает пулемет… Я понял, что вероятно, какой-то эстонский солдат думает, что мы русские, и немедленно откроет огонь. Это становилось очень рискованным. Обычно он должен закричать: «Стой, кто идет!», - и спросить пароль. Но этот пулеметчик ничего не закричал… Вдруг прозвучал выстрел, за ним другой, третий, - и попали в моего посыльного: того самого интеллигентного парня, который хорошо говорил по-немецки…
Когда я, наконец, добрался до него, то сразу спросил: «И что мне с тобой делать?» Но я не смог его наказать. Он сказал в оправдание: «Я тут строго следил, и не подумал… э-э…»
А 13 августа произошел один из первых тяжелых боев эстонской роты. В противотанковом рву мы заняли исходную позицию для атаки. Поддерживая нас, батарея тяжелых орудий провела артиллерийскую подготовку. От нашей позиции к населенному пункту вел длинный спуск с холма. На противоположных высотах мы увидели пушки русских, которые стояли на открытых огневых позициях. Под зорким взглядом врага мы должны были преодолеть открытое пространство. По моим представлениям, это могло получиться, только если атака боевой группы полка «Германия» будет успешной, и она достигнет населенного пункта. Но никаких намеков на это я не заметил. Поэтому мною было отложено начало атаки до тех пор, пока командование полка в бешенстве не приказало мне атаковать, утверждая, что боевая группа уже почти взяла Кленовое. Но сразу выяснилось, что в действительности пехотинцы сильно ослабленного 2-го батальона «Германии» под адским оборонительным огнем врага вперед не пошли. До окраины деревни смогли дойти только танки…
В результате неправильного командования танки застряли, русские их всех подбили, и у нас ничего не получилось. А ко мне посыпались приказы - «Почему вы не атакуете? Почему вы не атакуете?» Так поздно уже атаковать! Надо было учиться грамотно командовать танковыми ротами! Да в довершение всех неудач этого дня мы еще получили известие о том, что пропал без вести командир батальона.
- Как проходил бой на вашем участке?
- Мы выскочили из укрытия, и пошли в атаку. В тот момент мы старались подавить в себе страх и отчаяние. Против ожиданий, все подразделения роты смогли хорошо продвинуться вперед по полю сжатой пшеницы. Взвод Рууса, наступавший слева, уже приближался к крестьянскому двору. С трудом, ползком и перебежками, я добрался до них - это заняло длительное время. Я приказал им быстрой атакой занять крестьянский двор, но только дождавшись поддержки в виде огня артиллерии, минометов и взвода тяжелых пулеметов.
Когда я отдавал этот приказ, разрывная пуля снайпера ударила меня в каблук моего кожаного ботинка, но, слава богу, меня только легко ранило ее осколком.
Атака захлебнулась… В конечном итоге по радио я получил приказ оторваться от противника. Это мы сделали уверенно и без спешки. К моему удивлению это предприятие стоило нам не таких уж больших потерь. Это получилось благодаря хорошему обучению и мастерскому поведению солдат.
Теперь мы должны были оборонять позиции южнее совхоза Тавровка. Справа от нас окопалась 3-я рота под командованием оберштурмфюрера Ляйхта, и еще дальше находилась 1-я рота с ее новым командиром оберштурмфюрером Лео Шмидтом.
Линия нашего фронта была слишком растянута, и батальон не мог выделить никаких резервов, что сильно усложняло ведение боя. Как нам встречать возможный большой прорыв неприятеля в таких условиях?
Стрелковые отделения, собранные под командованием унтерштурмфюрера Рууса, под прикрытием темноты заняли свои позиции, с рвением окопались и мастерски замаскировались между стогов сена. 4-я (тяжелая) рота для усиления и для противотанковой обороны установила трофейные орудия калибра 76,2 миллиметра. За совхозом занял позиции взвод легких пехотных пушек батальона. Благодаря хорошему обзору, он эффективно обстреливал цели на вражеских позициях. Насколько я помню, несколько дней на нашем отрезке прошли без особых тревог, в то время как на остальных участках фронта не утихали оборонительные бои.
18 августа с раннего утра Советы открыли ураганный огонь, который продолжался два часа и заставил дрожать землю. На нашем участке он накрыл совхоз, в котором я устроил мой командный пункт. Обстрелу также подверглась местность за высотой.
На удивление, смертельный огонь врага едва затронул передовые позиции. К сожалению, во время обстрела погиб командир тяжелой артиллерийской батареи, хауптштурмфюрер Муртум, который, как и раньше, имел задание нас поддерживать. Образцово храбрый, он настоял на том, чтобы лично руководить огнем с одной высоты. С нее гарантировался хороший обзор поля боя, но находиться на ней было особенно опасно.
В наступившей после окончания артиллерийской подготовки устрашающей тишине из окопов поднялись вражеские стрелки, и пошли в атаку. После того, как она захлебнулась, на нас покатили русские танки в необычно большом количестве. Они выезжали из небольшого вреза [дефиле] на поле перед высотой. Танкам нам противопоставить было нечего. Я не знал, как мы сможем удержаться в таком положении.
Вместе с моим ротным отделением мы остались невредимыми, несмотря на прямое попадание в наше укрепленное укрытие в хлеву. Я уже готовился к последней решающей схватке, когда в самый последний момент сзади появились армейские [не принадлежащие СС] «Пантеры». Я быстро направил их в направлении советских боевых машин, которые запутались и, очевидно, потеряли ориентацию. Наши колоссы выехали на вершину холма. Когда русские Т-34 оказались перед их пушками, «Пантеры» начали отстреливать вражеские машины целыми рядами.
Сводка Вермахта отмечала, что на отрезке 5-й танково-гренадерской дивизии СС «Викинг» (и, насколько я помню, речь шла только об отрезке батальона «Нарва») подбито 84 советских танка! Решающим для большого оборонительного успеха этого дня был тот факт, что наша пехота твердо стояла на своих позициях и боролась с вражеской пехотой, не давая смутить себя танковым катком Советов. Это была действительно беспримерная храбрость!
Но, тем не менее, своим большим наступлением враг смог пробить широкую дыру во фронте справа от нас. Итак, с той стороны мы остались без связи с соседями. К счастью для нас, Советы упустили эту открывшуюся возможность для сильного удара.
Когда атака закончилась, мои эстонцы оставили свои позиции, побросали свои пулеметы и отправились утолять жажду. Из-за жары им, видите ли, захотелось пить! Они возвращались поодиночке, а я разговаривал с их командиром взвода, тоже эстонцем, о том, что надо контролировать своих солдат и не разрешать им самовольно покидать позиции. А если бы русские заметили?
Бой закончился, эстонцы пьют воду, а я пытаюсь связаться с соседями. Выясняется, что соседей у меня больше нет - их всех уничтожил артиллерийский огонь русских. Я держал позицию совершенно один. Справа и слева уже никого не было. Ужас!
Ко мне подошли три человека из экипажей «Пантер», помогавших нам в отражении атаки русских танков. Они пожелали мне дальнейших успехов, также рассказав о том, что один экипаж потерян в бою и у них осталось только три «Пантеры».
Мы стояли и разговаривали, как вдруг по рации одной из «Пантер» нам передали приказ, согласно которому я с ротой получил задачу занять и удерживать северную окраину леса Кадница, примерно в четырех километрах юго-восточнее нас.
Когда рота зашла в лес и расслабилась, по нам ударили Katjuschi. Разрывы снарядов «сталинских органов» появились прямо посреди роты. Один снаряд разорвался передо мной. Взрывом мне разбило лицо, и я повалился на спину. Вокруг царила паника. Я закричал им: «Лежать! Лежать! Прекратить панику!» Затем пришла тишина. Я приказал встать, и помочь раненым.
У меня оставалось только два пулемета, остальное было потеряно. Неожиданно я обнаружил советскую пехоту, идущую в атаку. Прямо перед собой я увидел русского командира, который к моему счастью смотрел в другую сторону. В этот момент я не выстрелил, и потом понял, что это спасло нас - у роты уже не было времени для организации защиты. А так и русский остался жить, и я смог установить оба моих пулемета и организовать оборону. Моя маленькая рота, в количестве 40 человек, находилась в этом огромном лесу, и больше никого кроме русских там не было.
И тут меня обстреляли: пенг, пенг, пенг! Мне стало понятно, что по мне из карабинов стреляют мои же эстонцы – как тогда, когда убили моего посыльного. Я понял, что зашел слишком далеко, оказавшись между русскими и немцами. Послышались команды на эстонском: «Стоп! Стоп!» Слава богу, до них дошло, что это их командир роты! Черт возьми, это очень типично для менталитета эстонцев.
А в третий раз это произошло, когда я возвращался на позицию. Подхожу к окопам, и тут в меня летит ручная граната! Пришлось спрятаться и кричать. Когда мы, наконец, смогли друг друга понять, кто-то произнес: "А-а, это командир роты. А-а…"
- Эстонцы легко впадали в панику?
- Однажды произошла одна маленькая ситуация с паникой у эстонцев. По-моему, это происходило в конце августа 1943 года. Произошел советский прорыв, и нам пришлось отходить назад, чтобы загнуть фронт. А я только что получил 10 новых солдат, и все - эстонцы.
Вот как было дело. Линия обороны располагалась примерно в 12 километрах севернее деревни Валки, которая находилась юго-западнее Харькова, недалеко от линии железной дороги на Полтаву. Очень ослабленная 2-я рота должна была оборонять сильно вытянутую деревню Шилов. От роты остался практически один взвод, - но, к нашему счастью, нас поддерживала тяжелая батарея 5-го артиллерийского полка СС, передовой наблюдатель которой с большим умением и уверенностью управлял огнем. Под защитой домов русские все время пытались подойти как можно ближе к нам, чтобы затем реализовать свое численное преимущество в ближнем бою.
Ни одна из этих попыток не удалась, не в последнюю очередь из-за огня гаубиц. Её точным огнем была расстреляна и уничтожена советская батарея, которая безрассудно-отважно (равно как и легкомысленно) начала занимать позицию прямо перед нашим носом. Её уничтожили еще до того, как она успела установить на прямую наводку свои смертоносные пушки.
31 августа, мощной атакой всех собранных сил, с танками и при сильной огневой поддержке, Советы смяли позиции 2-го батальона полка «Германия», который держал фронт справа от нас. Его остатки были отброшены далеко назад, и наш правый фланг стал полностью открыт, что представляло большую опасность. Положение было критическое. Враг прорвался в Войтенково, где находился командный пункт батальона. Однако благодаря быстрому вмешательству наших танков Советы удалось оттеснить назад, и штаб батальона не пострадал. После смерти командира, хауптштурмфюрера Графхорста, командование принял штурмбанфюрер Оеск. Находившаяся на правом фланге 2-я рота получила приказ завернуть назад и продлить свой правый фланг для защиты висящего фланга. Но понятно, что ни боевая сила, ни количество бойцов от этого не увеличились. Не хватало унтер-офицеров, а профессиональные качества имевшихся под рукой оставляли желать лучшего. Надежными были только Фриск и Кнаппе. Назначать унтер-офицерами эстонцев еще было нельзя. Кроме того, у меня забрали унтер-офицера Рууса, который принял командование 3-й ротой. Из-за этого управлять солдатами стало значительно сложнее. Неизбежно возникли серьезные трудности в управлении боем, надзоре и обслуживании вооружения.
Однажды ночью я вместе с моими солдатами строил оборонительную позицию, а также несколько позади - ротный командный пункт. Переночевав в моем новом командном пункте, я на рассвете захотел вернуться на позицию, но наткнулся на русских, которые существенными силами в темноте просочились через наш открытый фланг. Определенно, враг намеревался зайти в тыл нашего батальона чтобы подавить сопротивление эстонцев, после того как его лобовые атаки не принесли результатов.
Мы решили отходить, и попали под обстрел. Я начал окапываться за домом, но он загорелся. И теперь если бы я поднялся из моего окопа, меня в свете огня сразу бы стало видно. Это становилось большой проблемой. Все-таки я как-то оттуда вылез и добрался до моих эстонцев. Но эти новые десять человек оказались еще одной крупной проблемой, потому что они никак не могли понять, чего я от них требую. А их срочно нужно было выдвинуть на оголенный участок слева! И что происходит? Темнота, выстрелы, крики, и они меня не понимают. Они даже не знают, что я командир роты! Все это становилось невыносимым!
Я хотел было вернуться назад, к моему командному пункту и взять там резервное отделение, но впереди показалась группа советских солдат, в количестве около взвода. Получалось, что от командного пункта мы уже были отрезаны. Я выбрал из этих эстонцев трех человек, которые показались мне более или менее нормальными, и приказал им двигаться за мной. Но они отказались это делать, они не пошли! Они или не смогли меня понять, или не захотели. Тогда я пошел один и нарвался на автоматный огонь. Пришлось отходить вбок, в направлении соседей. Отстреливаясь, я добрался до командира соседней, расположенной слева от нас 3-й роты унтерштурмфюрера Рууса, и оттуда доложил о случившемся в батальон. К счастью, через батальон мне удалось связаться с командиром ротного отделения моей роты унтершарфюрером Кнаппе, который находился на моем командном пункте, и сообщить ему о случившемся в несколько повышенном эмоциональном тоне: «Берите всех ваших людей за шиворот, и бегите с ними на новую позицию!»
Изворотливому и энергичному Кнаппе это удалось. Таким образом, моя рота опять вернулась ко мне, и я повел ее в бой таким образом, что враг снова отступил за нашу первоначальную оборонительную линию. Тактически Советы ничего не выиграли, а мы ничего не проиграли.
Батальон «Нарва» держал свой участок фронта, пока не получил приказ оторваться от врага и снова атаковать его на марше. Оказывая постоянное сопротивление в такой форме, нам удалось наконец-то добраться до Днепра, и в конце сентября переправиться через реку у Черкасс. Первоначально «Нарва» должна была быть резервом дивизии «Викинг», которая заняла оборону на участке северо-западнее Черкасс. 2-я рота остановилась сначала в Байбузы, в это забытое богом гнездо на окраине большого леса. Но ситуация быстро изменилась. Батальон «Нарва» перевели к Днепру. Коротким, но трудным маршем по засыпанным песком дорогам мы достигли цели и заняли отрезок обороны на берегу Днепра, перейдя в подчинение полку «Вестланд».
Однажды ночью в расположении дивизии и соседних частей выпрыгнуло большое число советских парашютистов. Еще до того, как они успели собраться, организоваться и перейти в наступление, они были разбиты. Для этого даже не потребовалось никаких специальных мероприятий со стороны руководства дивизии. Все части и подразделения, которые находились в местах своего расположения, решительно вступили в бой и разбили рассеянных вражеских парашютистов. Но все-таки части из них удалось пробиться в Черкасский лес к действующим там партизанам. Там возникла снабжаемая по воздуху военная база в нашем тылу, что имело очень большие последствия.
- Это очень известный эпизод, можете подробней рассказать? Огни в небе были?
- Нет. Сверху не было огней, совсем ничего. Что мне сказать? Ведь мы тогда ничего не знали. Я просто дал приказ выйти из машин и занять позиции. Мне даже неизвестно, стреляли по нам или нет.
- Это была катастрофа для десантников.
- Да, там погибли две бригады. Дело в том, что любые наши части всегда были готовы действовать без приказа, самостоятельно. Каждый командир роты, каждый унтер-офицер знал, что ему делать в случае, когда выбрасывают парашютистов. Против приземлившихся парашютистов даже не проводилось специальной операции. В ту ночь, все части попросту заняли свои позиции там, где они находились, и сами ночью ликвидировали десант…
Кстати, еще одна история про парашютистов, несколько другого рода. В 1944-м году, когда мы стояли севернее Варшавы, еще до Варшавского восстания в августе, однажды осматривая позиции, мы увидели низко летящий самолет. Он летел с запада, а не с востока. Американцы или англичане?
Моя рота тут же, сама, без моего приказа поднялась по тревоге, так как каждый солдат знал, что если десантируются парашютисты – их надо немедленно ликвидировать. Мы немного подождали и поняли, что в этот раз нам упадет сверху нечто более приятное, чем парашютисты: шоколадки, пулеметы или еще что-нибудь хорошее. Нам перепадало огромное количество грузов из тех, что должны были попасть в Варшаву. Американское спец-снабжение, как же оно нам нравилось!
- После разгрома парашютного десанта, вас привлекали к прочесыванию местности?
- Нет, нас отправили на фронт. Я знаю, что через короткое время это перестало быть проблемой. Это советское парашютное предприятие очень быстро закончилось, и без каких-либо последствий для нас. Бесполезная затея… Основная масса парашютистов попала в плен или погибла, но многие поодиночке вышли к партизанам. А партизаны в тех местах оказались очень сильными. Их постоянно снабжали по воздуху очень легкие, устаревшие бипланы. Мы называли их «ночные вороны». Поначалу его слышно, потом звук пропадает. Становится понятно, что сейчас прилетят бомбы. А потом снова звук мотора - вр-р-р-р, и он исчезает. Они могли выключить мотор и подлететь очень тихо, поэтому их было трудно обнаружить. Я предполагаю, что они так же снабжали партизан, потому что они очень медленные и могли садиться на сложных участках.
И еще я хочу сказать, у этих партизан должно было быть превосходное командование, потому что мы не смогли их победить.
- Вы пытались?
- Ну, сначала мы с ними не имели контактов, не пересекались. Наши две роты батальона «Нарва» заняли на передовой профессионально построенные организацией Тодта позиции. Враг держался на некотором удалении от реки и строил свои позиции на низком восточном берегу Днепра, что грозило нам дальнейшими неприятностями. Штаб батальона построил командный пункт в деревне Лозовок, взвод легких пехотных пушек также занял там позиции.
На нашем, слишком длинном для нас участке фронта, мои немногие люди с короткими перерывами должны были постоянно находиться в боевой готовности у своих карабинов и пулеметов. Кроме того, было необходимо постоянно посылать разведывательные группы для наблюдения за лежащей перед нашей передней линией местностью. Осенняя и зимняя непогода доставляла нам много неприятностей. Для отдыха оставалось совсем мало времени. Бойцы не могли нормально следить за собой и держать себя в чистоте. Это были те тяготы, которые сегодня, в уютных квартирах, тяжело понять даже тем, кто сам их когда-нибудь пережил. В этих условия сделать или организовать что-нибудь для обеспечения и снабжения было очень тяжело. Но каждый солдат в роте, который находился в передовой линии, независимо от звания, одну ночь в неделю мог провести в обозе, в построенной нами самими сауне, поменять белье и купить маркитантские товары.
К тому, что случилось потом, немецкое командование не было подготовлено. Но оно и не могло подготовиться из-за отсутствия сил! Через некоторое время Советам кое-что удалось. Они форсировали Днепр в полосе нашего правого соседа и захватили плацдарм. В этот раз Советы все сделали очень грамотно. Они нанесли комбинированный удар: с фронта через Днепр переправились армейские части, а из леса нам в тыл ударили партизаны и оставшиеся в живых парашютисты. Подозреваю, что партизаны сообщили своему командованию на другой стороне Днепра о нашей малочисленности и о наших небогатых возможностях по удержанию такого огромного участка. Так в ноябре 1943 года они получили дополнительный плацдарм. Батальон «Нарва» должен был теперь держать оборону и против Черкасского леса, то есть одновременно спереди и сзади. Эта задача была поручена 2-й роте.
Надо упомянуть еще одно событие, которое поставило нас в тяжелое положение. Парашютисты из Черкасского леса атаковали Елизаветовку, соседнюю деревню на берегу Днепра, в которой стояли наши обозы. Было ли это прелюдией вражеского наступления, которой должно было начаться, когда дивизия повернет фронт в обратную сторону? Это могло бы превратиться в ужасную ситуацию для нас, с которой мы не смогли бы справиться собственными силами, - если бы вообще смогли с ней справиться.
Ночью начался бой, они с ходу прорвались к обозу нашего батальона. Оттуда сразу посыпались панические донесения. Был необходим немедленный контрудар, дожидаться прояснения обстановки и разведывания вражеских сил было некогда.
Я в тот момент находился на командном пункте батальона и тут же, с пригоршней солдат 2-й роты, пошел в контратаку. Одного из русских, одетого в форму парашютиста, удалось застрелить. Мне бросилась в глаза его хлебная сумка, из которой торчал кусок испорченного сырого мяса - он плохо пах! Это значило, что у них проблемы со снабжением. Помню, я еще подумал: «Так вот значит, как у них дела!»
Потом наступили Рождество и Новый Год. Впервые за долгое время мы получили пополнение. Среди прибывших был хауптштурмфюрер Сиим, адвокат из Ревеля, который должен был пройти у меня стажировку на должность командира роты. Также в батальон пришли эстонские унтер-офицеры [унтер-фюреры].
Из южной части Черкасского леса началось сильное вражеское наступление, которое привело к потере нами большого района западнее города Смела. Там длительные наступательные и оборонительные бои вела валлонская добровольческая бригада СС. В район этих тяжелых боев в районе Орловца [Черкасская область] для замены и поддержки также был переведен батальон «Нарва» вместе с моей 2-й ротой. Это должно было состояться 18 января 1944 года. Для нас это означало бои на большой и плохо просматриваемой местности, где каждый старался изобрести какое-то коварство. Но я в них уже не участвовал, я пережил там только один короткий бой, во время которого мы прятались за поленницами дров. Для меня это все закончилось через пару дней. Получилось так, что я заболел гриппом и должен был находиться в обозе. Командование ротой принял хауптштурмфюрер Сиим, который, к сожалению, потом погиб. За несколько дней до окружения я получил новое задание и был переведен в полевой резервный батальон.
Потом, уже без меня, начались атаки на плацдарм. Мне рассказывали, что валлонская добровольческая бригада попыталась разрушить это гнездо, но не смогла - русские оказались слишком сильными.
А я должен был сформировать специальную вспомогательную роту танковой дивизии, которая подчинялась только командиру дивизии. Получилась сильная рота. Я сформировал ее в марте, и в нее зачислили много финнов, датчан и поляков. Я командовал этой ротой во время оборонительных боев летом, и до октября 1944 года. После этого я стал командиром саперного батальона.
Служба в эстонском танково-гренадерском батальоне СС, продолжавшаяся примерно полгода, принесла мне не только ценный военный опыт, но и расширила мои духовные горизонты. Тогда, в потоке военных событий, я не понимал это так хорошо, как понимаю сейчас. Встреча с европейскими добровольцами в наших рядах в условиях войны не оставила места узколобому провинциализму. В том же масштабе, в котором национальное самосознание заботится о благе собственного народа, должны учитываться также интересы других народов. Я тогда это хорошо понял. Эстонские товарищи доверяли немецкому руководству и храбро сражались на нашей стороне, будучи уверенными в том, что они служат своему народу. Они приносили тяжелые жертвы и после войны пережили много бед, унижений и клеветы. Меня очень мучает мысль о том, что мы, немцы, не смогли их за это вознаградить.
- В Черкасском котле вас снабжали по воздуху?
- Да. И Ваш вопрос помог мне вспомнить интересный, с исторической точки зрения, случай. После того, как меня из «Нарвы» отправили в полевой резервный батальон, который находился в районе городка Стеблев, я был назначен заместителем командира этого резервного батальона. Однажды пришло донесение от командира роты. В нем сообщалось о необычном поведении русских. На высоте, где находились позиции советских пулеметов, вдруг появился белый флаг, и зазвучала труба. Я приказал прекратить огонь и вышел на дорогу перед нашими окопами. Со стороны русских приехал автомобиль, остановился…
Я мог не торопясь рассмотреть этих русских с близкого расстояния. Их было пятеро: советский капитан, старший лейтенант, переводчик, знаменосец и горнист. Они молчали и с нескрываемым любопытством тоже рассматривали меня. Я спросил их: «Что вы хотите?» - «У нас есть приказ передать лично вашему командиру послание». Мы, разумеется, сразу доложили об этом, и получили разрешение привезти парламентеров.
До этого я приказал командиру роты не стрелять в них и держать наготове какой-нибудь платок. Платка у нас не оказалось, однако мы кое-то нашли, чтобы завязать глаза этому советскому офицеру. Но он сам достал свой белый платок и сам завязал себе глаза. Уже не помню, чьей машине, на нашей или на своей, но он уехал к нашему старшему командиру.
Его принял полковник вермахта Курт Фуке, который так же начал спрашивать, что ему нужно и, выслушав ответ, передал послание генералу Штеммерманну. Штеммерман потом погиб во время прорыва. Штеммерманн ответил: «Послание мы не принимаем, можете ехать обратно».
Об этой истории часто и по-разному рассказывают, но я ее запомнил в таком виде. В тот момент, когда с русского офицера снова сняли повязку, он спросил, где его позиция. Мы ему показали – «Вон там, наверху твои пулеметы». Тогда парламентер сказал нам, что если мы не капитулируем, то нам будет плохо, так как они имеют приказ Сталина уничтожить нас всех, и он не понимает, к чему эти напрасные жертвы. Нам же все было понятно - Сталин сказал, что из котла никто не должен вырваться, и после приказа сверху нас полностью уничтожат. Знакомая картина. Что тут непонятного?
Теперь к Вашему вопросу о снабжении. В тот же день после обеда в небе раздался очень громкий звук мотора - на бреющем полете прилетели бомбардировщики. Я, как и вероятно многие другие, сначала подумал, что сейчас посыплются сталинские бомбы. Но это оказались немецкие бомбардировщики, и они массировано сбрасывали канистры с бензином, продукты и боеприпасы.
Кстати, на этой же самой позиции мы получали призывы от национального комитета Зейдлица [Walther von Seydlitz-Kurzbach]. Однако на них никто не реагировал. Для нас это была полная ерунда. В Стеблеве, в те дни, когда мы его защищали, мы получили отличный пакет с черным хлебом и обращением русских к Гилле, в котором было написано, что мы должны перебежать, что будет горячая еда, что с офицерами будут обращаться соответственно, есть женщины, и прочее. Вот уж мы смеялись! Генерал Гилле летом стал командиром дивизии, а позже он был назначен командиром 4-го танкового корпуса СС.
- Говорят, что Гилле эвакуировали из котла в Корсуне до прорыва?
- Полная херня, абсолютная. Мы это слышали, и мы все над этим смеялись. Он пробился с колонной, перешел реку на артиллерийской лошади. Перед прорывом нам сбрасывали листовки: «Солдаты, ваш командир давно сбежал». В ответ мы смеялись: «Так вот же он!» Подобная пропаганда недопустима. Так нельзя делать. Со стороны русских это было психологически нечестно. С солдатами так нельзя поступать. Ведь он был с нами все дни.
Между тем, впечатления от прорыва остались не самые лучшие. Потери оказались ужасающими! По моей оценке в котле было 50 тысяч человек, из них 30 тысяч пробились, а 20 тысяч погибло.
- Как вам удалось оттуда вырваться?
- Мне даже сегодня это непонятно. Помню, что я передал роту другому командиру, и должен был ехать в тыл для специального обучения. 27 января я сел в машину, приехал в штаб и доложился командиру дивизии. Он меня внимательно выслушал, немного помолчал, а потом произнес: «Это все прекрасно, но Вам придется остаться здесь, потому что мы окружены. Я хочу Вас назначить заместителем командира резервного батальона в Штеплеве. Там прорыв русских, и это их основной удар, нам в спину».
Десять дней я руководил обороной на том участке. Нам повезло, мы отбились. Потом этот резервный батальон использовали при прорыве из окружения. В первом же бою я неожиданно напоролся на пулемет русских, который находился от меня всего в 10 метрах. К моему счастью пулеметчик промахнулся… Все происходило ночью, и мне снова повезло. Пулеметчика удалось уничтожить, но я был один, совсем один!
Наступил день. Резко потеплело до нуля. Медленно, застревая в грязи и тающем снегу, брел нескончаемый поток смертельно усталых людей. Я чувствовал жар и слабость, поэтому не мог идти вместе с ними и одиноко брел в стороне. По колонне отступающих прямой наводкой стреляла целая батарея «ратш-бумов» - русским даже не нужно было целиться. В толпе методично появлялись разрывы снарядов, но никто уже не обращал на них внимания, люди просто перешагивали через убитых и шли дальше. Все вокруг нас уже было взорвано или разрушено. Дорога превратилась в ад.
Я лег в яму и подумал: «Это конец. Но в плен я не сдамся, такого конца я не хочу». Какое-то время я просто лежал. Потом у меня появилась мысль, что я очень хочу домой! Я приподнялся и осмотрелся… Вокруг барахтались в грязи части нашей и других дивизий. Царил хаос.
Вдруг я услышал, как кто-то отчаянно закричал: «Да неужели тут нет офицера, который может дать приказ?» Слова обожгли – «Это же он про меня! Я должен приказывать!» И я поднялся. Подошел второй офицер. Им оказался знакомый мне врач из нашего батальона. Он имел карту, и это стало моим счастьем - я смог понять, где мы находимся. Все становилось на свои места. Впереди я увидел Почапинцы.
Тут один фельдфебель сказал врачу: «Обер-шарфюрер, это же наш обер-лейтенант». И тут я начинаю вспоминать, что он у меня как-то был передовым наблюдателем от артиллерии, и говорю ему: «О, теперь будем идти вместе!» Наконец прозвучал так долго ожидаемый многими приказ: «Вперед! Мы атакуем!» Идея оказалась очень проста – нужно было просто пройти мимо пушек. Все, кто там был вокруг, последовали за нами. Все закричали: «Ура!», атаковали Почапинцы и пробились.
- Сколько примерно людей вышло с вами из окружения?
- Сейчас трудно оценить. Собрались люди из разбитых, рассеянных частей. Может быть, человек сто или сто пятьдесят.
В деревне у меня окончательно скрутило желудок. Мы зашли в первый попавшийся дом. В нем никого не оказалось. На столе стояла специальная посылка с высококонцентрированным шоколадом в капсулах. Коробка лежала открытой, и это было типично. Ее явно открыли немцы, но когда появились советские солдаты, они сбежали. Я взял себе капсулу шоколада и стакан воды, затем вышел на улицу, и помню, какое-то время стоял с этим стаканом на крыльце.
Вокруг меня сгрудились солдаты. Шел снег, и в снегу мимо нас вдруг покатились Т-34. Прямо перед дверями дома! Один солдат в тяжелой зимней шинели, какие были у водителей, вышел из-за моей спины и тут же исчез под гусеницами танка. Началась паника. Если бы это была моя рота, я бы смог их остановить, и мы бы заняли оборону… А так мы с фельдфебелем снова остались одни. Сначала бежали от танков и заблудились. Потом куда-то шли, и я не мог определить по карте правильную дорогу. В результате долгих блужданий мы оказались перед речкой Гнилой Тикич. Нужно было как-то переходить ее… Усталые, мы оба стояли на берегу реки, и по нам стреляли. Снаряды шлепались в жижу, обдавая людей адской смесью грязи, снега и осколков. Я смотрел на людей, которые раздевались и бросали свою одежду на берег. Узлы с одеждой кувыркались, рассыпались на лету, шлепались в воду, и все уносилось течением. Кто-то, оседлав лошадь, пытался перейти реку вброд. Все это приобретало черты полной анархии…
Тут к берегу подошел так называемый «восточный тягач» - грузовик на гусеницах, в котором сидел армейский обер-лейтенант. Хотя мы оба были в одном звании, я решительно приказал ему: «Вы на этой машине езжайте через реку! А мы сядем на крышу». Он тут же вскипел: «Не смейте мне приказывать!» У меня не было никакого желания спорить с ним, и я как-то совершенно равнодушно произнес: «Мы что тут, сейчас ругаться будем? Это же единственное решение. К тому же на этом автомобиле вы до Германии все равно не доедете». Затем я обратился к водителю: «Послушайте, дружище, держите двери открытыми. Вам надо заехать в реку, и там вы выпрыгните. Мы оба будем рядом и поможем вам. Это должно получиться».
Но это не получилось - машина застряла в грязи. Тогда мы пошли дальше вдоль реки и там встретили солдата из моей роты. Это был сапер Шауфен. Он решил присоединиться к нам. Двигаясь по берегу реки, мы заметили толпу солдат из разных частей, которые пытались свалить дерево, чтобы затем перейти реку по его стволу. Они кричали, ругались и толкали друг друга. Я не выдержал и вмешался: «Прекратите, теперь я буду отдавать приказы!» Мгновенно возникла напряженная ситуация, но, к счастью, один фельдфебель поддержал меня: «Подчиняйтесь, приказывает обер-лейтенант…»
Я сказал им, чтобы они не мешали, потому что у моего сапера есть инструмент, и он быстро повалит ствол в нужном направлении. Это было сделано, и один за другим мы перешли на ту сторону. Я командовал, кому за кем идти, чтобы никто не лез вперед без очереди. Первый солдат, который перешел на тот берег, ждал там других и помогал им. Затем его сменял следующий. Таким образом перешла вся группа. Я переходил последним, но, к сожалению, неудачно – соскользнул со ствола в воду и совершенно промок до пояса.
Мы поднялись на холм и напоролись на танки русских. Они начали стрелять по нам на выбор. Пришлось прятаться и дожидаться их ухода. Здесь мои силы окончательно исчерпались, и я просто упал. Тогда мой товарищ сказал мне: «Вставайте! Надо идти! Если вы будете лежать, вас убьют. Вы, офицер, всегда сами мне это говорили и являлись примером для меня». Я подумал, что это правда, встал, и мы все-таки доковыляли на передовую немецкую позицию 1-й танковой дивизии.
Потом я еще помогал организовывать прием вышедших из котла. Меня даже не ранило, но я был чертовски измотан. Для нас решающим оказалось то, что мы смогли ворваться в Почапинцы.
- Ночные бомбардировки ночью 16 и 17 февраля сожгли Шендеровку. Вы это видели?
- Нет. В Шендеровке я не был. Ее взяли еще до прорыва. Иначе мы бы там прорвались.
- Была ли паника во время прорыва котла в Корсуне?
- При прорыве? Что такое паника, в данном случае? Происходило неорганизованное бегство. Можно сказать что да, паника.
После прорыва из котла в Черкассах, где мы спасли только наши голые жизни, а все тяжелое вооружение и пулеметы было потеряно, дивизию СС "Викинг" (точнее ее боеспособные остатки) перевели в район Люблин - Хольм, чтобы там освежиться и переформироваться в танковую дивизию. [На 31 декабря 1943 дивизия насчитывала в своем составе 14 647 человек. После боев в котле 25 февраля 1944 года в районе Звенигородки приблизительно 4 тысячи человек без техники и тяжелого вооружения достигли линии, занимаемой немецкими войсками].
В этой ситуации 12 марта 1944-го года из штаб-квартиры Фюрера пришел приказ, о направлении боевой группы в количестве 4000 человек для усиления гарнизона Ковеля. Сообщения о том, что личный состав дивизии находится в плохом состоянии и отсутствует штатное вооружение, этот приказ не изменили. Солдат немедленно погрузили на транспорт, и они уехали. Я не вошёл в состав этой группы, потому что меня отправили в запасной батальон с приказом сформировать вспомогательную роту. Но о происходившем в Ковеле я знаю хорошо.
В сопровождении первого офицера-ординарца 18 марта командир дивизии, группенфюрер Ваффен СС Гилле вылетел в Ковель, чтобы сменить там коменданта, обергруппенфюрера Бах-Зелевского [Erich von dem Bach-Zelewski], и принять командование. В Хольме в числе прочих были погружены оба танково-гренадерских полка СС: 9-й «Германия» и 10-й «Вестланд», в полном составе, с пулеметами, ручным оружием и боеприпасами. Они поместились всего в два эшелона и отправились в направлении Ковеля.
Но в Ковеле напрасно ждали их прибытия. Состав с полком «Германия» попал под сильный обстрел и не смог продолжать движение. Ему пришлось сначала отвоевать линию железной дороги. Полку «Вестланд» прямо с колес также пришлось вступить в бой. Однако пробиться в Ковель им не удалось даже и на следующий день. С легким оружием победить врага они не могли.
- Что за части им противостояли?
- Вокруг города уже находились четыре советских стрелковых дивизии, поддерживаемые танками. Плюс были сильные партизанские соединения, давно действовавшие в этом районе. Советы не стремились активно атаковать Ковель, а снова и снова перерезали линию железной дороги и озлобленно огрызались против попыток снять блокаду.
Это соответствовало базовому представлению Гитлера (которое с течением войны, очевидно, еще более укрепилось) о том, что наступление врага надо останавливать обороной укрепленных пунктов, а не вести маневренную войну. Так было и зимой 1941-42-го годов, и уже тогда стало ясно, что это очень большая ошибка в управлении войсками, которая со временем имела все более тяжкие последствия. После отставки Манштейна о маневренной войне больше не могло идти и речи. Ей на смену пришло удержание позиций с ослиным упорством.
Тогда появилась ужасная идея «укрепленных мест», которые должны были использоваться для того, чтобы остановить продвижение Красной Армии. Согласно приказу Гитлера от 8 марта 1944 года их гарнизоны должны давать себя окружить для того, чтобы затем собрать большие силы, и создать условия для успешного контрнаступления.
Таким образом, верховное командование назначило город Ковель «укрепленным местом», а главнокомандующий группы армий «Юг» генерал-фельдмаршал Манштейн 16 марта 1944 года назначил генерал-лейтенанта Ваффен СС Гилле его комендантом.
Город Ковель находится на севере Волыни и окружен болотами. Он был, и до сих пор, вероятно, является важным транспортным пунктом, и поэтому имел значительное военное и оперативное значение. Ситуацию с обороной города новый комендант никак не мог назвать надежной. Численность гарнизона составляла 4000 человек. Кроме четырех саперных рот, легкого артиллерийского дивизиона, одного легкого зенитного дивизиона, кавалерийского полка СС, укомплектованного балканскими добровольцами «фольксдойч», для обороны «укрепленного места» имелись только полицейские и охранные подразделения, которые обычно применялись исключительно против партизан. Кроме того было еще 250 человек из тыловых частей, которые до сих пор очень уютно служили в тыловых ротах обеспечения, полевой комендатуре и на железной дороге. И вдруг эти люди неожиданно для себя стали боевыми солдатами.
Без промедления и очень энергично Гилле принял меры для улучшения обороны. Все части получили свои боевые задачи. Были построены полевые укрепления и заграждения. Пути снабжения ставились под защиту. Командиром предназначенных для деблокирования Ковеля сил дивизии «Викинг» стал командир 5-го артиллерийского полка СС Рихтер. В эту дивизионную боевую группу вошли артиллеристы, зенитчики и саперы, у которых еще не было ни автомобилей, ни полевых кухонь, ни раций. Их эшелон не смог пройти дальше Лубомля. Они могли пойти в бой только в качестве пехоты, потому что все вооружение соответствующего рода войск, которое у них должно было быть, на данный момент полностью отсутствовало. Поэтому им поручили охранять линию железной дороги, идущую на Ковель. Ее снова и снова взрывали партизаны, и атаковала советская штурмовая авиация.
Для усиления наших войск также поступил только что сформированный 3-й танковый батальон полка «Германия», и на тот момент это была наша единственная боеспособная часть. Штаб дивизии располагался в Люблине и оттуда руководил персоналом, снабжением, оружием, машинами, оборудованием, и железнодорожными перевозками. Это требовало напряжения всех сил.
Атаками в сходящемся направлении, Советы обжали кольцо окружения и прижали обороняющихся к окраинам города. Им удались первые прорывы линии обороны.
19 марта 42-й армейский корпус из Хольма начал операцию по деблокированию «укрепленного места». Деблокирующие силы дошли до важного населенного пункта Мазеево, находящегося примерно в 25 километрах западнее Ковеля. Это позволило выгрузить только что подъехавшую 131-ю пехотную дивизию прямо на вокзале в Мазеево. Руководство острием клина направленного вдоль железной дороги принял на себя ее командир, генерал Вебер.
Тем временем положение в окруженном городе все более ухудшалось. Потери росли. Однако ускорить операцию по деблокированию города оказалось невозможным, потому что ускорить подвоз людей и ресурсов не удавалось. Линия железной дороги из Хольма в Ковель снова и снова взрывалась и переставала работать. Вторая линия снабжения, размытая проселочная дорога, оказалась забита стоящим транспортом, и была полностью парализована.
Наконец в атаку на восток пошел 434-й гренадерский полк под командованием полковника Набера, и после тяжелого боя занял Старые Кошары. Его поддержал 3-й батальон «Германии», усиленный батареей 190-й бригады штурмовых орудий. Батальон располагал бронетранспортерами, но, к сожалению, не прошел на них никакого обучения и тренировок. Кроме того, возможности передвижения в лесах и болотах оказались весьма ограниченными. В таких условиях это боевое средство не нашло своего применения.
Наступление остановилось. Не хватало поддержки тяжелым вооружением, которое мы смогли применять очень ограниченно. Наши собственные силы были слишком слабы. На глубоких открытых флангах узкого наступающего клина 131-й пехотной дивизии Советы проводили интенсивные контратаки. С севера их отбивали остатки 1-го и 2-го батальонов полка «Германия» под командованием штурмбанфюрера Дорра. С юга прикрытие обеспечивал полк «Вестланд» оберштурмбанфюрера Масселя вместе с 5-м зенитным дивизионом СС штурмбанфюрера Штойге. Но у них тоже было только ручное оружие. Под усиливающимся давлением врага могло случиться так, что наступающие на Ковель вдоль линии железной дороги деблокирующие силы, в свою очередь, тоже будут окружены.
Состояние местности вокруг города не позволяло проводить танковые операции. Но поддержка пехоты бронированными машинами сыграла определенную роль. Кроме того, недавно сформированный 2-й батальон 5-го танкового полка СС существенно увеличил пробивную силу деблокирующих частей. Его только что в большой спешке перебросили в Хольм из Франции.
Первой в бой вступила 8-я рота. 27 марта она дошла до Мазеево и была подчинена 131-й пехотной дивизии. Для новой попытки прорыва вдоль линии железной дороги из Хольма в Ковель 29 марта у Старых Кошар были собраны: справа - 3-й батальон "Германии", в центре - 8-я рота 5-го танкового полка СС под командованием оберштурмфюрера Николусси-Леск и слева - батальон 434-го гренадерского полка под командованием капитана Больма. Оба пехотных батальона были усилены штурмовыми орудиями.
В полдень началось наступление, первой целью которого являлась деревня Черкасы. Уже через два с половиной часа танковая рота прорвала позиции противника перед этим населенным пунктом. Во время сильной метели гренадеры заняли деревню. Только пушек калибра 7,62 сантиметра в ней было уничтожено 11 штук. Это говорит о том, какими силами защищались Советы.
Приказ об остановке наступления не дошел до танковой роты. Она уже втянулась в Черкасы и занимала там оборону. Николусси-Леск решил развить успех и продвигаться дальше. Около 4 часов утра следующего дня он с 9 оставшимися танками собственными силами атаковал русских. Его поддержал гренадерский батальон капитана Больма. После того как несколько вражеских танков были подбиты, удалось прорвать последние заграждения Советов.
В 8:15 храбрый командир 8-й роты 5-го танкового полка СС с 7 танками вошел в город и сообщил об этом его коменданту. Защитники Ковеля получили долгожданное и решающее подкрепление. Однако блокада «укрепленного места» с этим прорывом не закончилась. Напротив, кольцо окружения еще более уплотнилось.
Для охраны наших подбитых во время атаки и не способных двигаться танков была назначена 11-я рота 3-го батальона танково-гренадерского полка «Германия». Под защитой темноты она дошла вдоль насыпи железной дороги до вокзала в Черкасах. Там экипажи двух подорвавшихся на минах «Пантер» вместе с 12 храбрыми пехотинцами держали оборону против интенсивно атакующих русских.
Этот, теперь усиленный, пункт обороны продержался еще два дня. Когда закончились боеприпасы, борьба стала бессмысленной. Командир роты, хауптштурмфюрер Треукер, получил приказ прорываться в Ковель. Но вместо этого он в ночь с 1-го на 2-е апреля попытался прорваться на запад. При этом 11-я танково-гренадерская рота полка «Германия» была полностью уничтожена. Среди множества погибших числился и ее командир.
С 27 марта 42-й армейский корпус, включая 5-ю танковую дивизию СС «Викинг», 131-ю пехотную дивизию, части 19-й венгерской легкой дивизии и группу Гилле, был подчинен 2-й армии. Это означало, что деблокирующие удары будут продолжены с новыми силами, которых не было в 4-й танковой армии. Так, к этой операции был подключен 56-й танковый корпус под командованием генерала пехоты Хоссбаха, продвигавшийся от Бреста к Ковелю. Первоначальной его целью являлось нанесение Советам мощного удара и восстановление связи с северным крылом группы армий «Юг». В свете произошедших событий его главной задачей стало снятие блокады Ковеля. Его попыткам перехода через Припять враг оказал достойное сопротивление. Обе наступавшие на левом фланге дивизии остановились. Поэтому командование 56-го танкового корпуса перестало верить в то, что Хоссбах сможет вовремя прийти на помощь защитникам Ковеля.
Положение в городе тем временем осложнилось до такой степени, что группа армий «Центр», по согласованию с Верховным командованием, приказало гарнизону города очистить «укрепленное место» и пробиваться на запад. Гилле ожидал, что деблокирующие силы, после успеха прорвавшейся танковой роты, тем же путем пробьют кольцо советской блокады. Этот факт стал известным благодаря расшифровкам его радиопереговоров. Но из-за интенсивных атак врага с юга и севера на открытые фланги узкого деблокирующего клина, 42-й армейский корпус уже был не в состоянии это сделать. Кроме того, деревня Черкасы, захваченная 29 марта, была потеряна. Контратакой батальона егерей-лыжников ее снова вернули. Для этого потребовалась поддержка 7-й роты 5-го танкового полка СС. После этого боя в роте осталось только 2 боеготовые «Пантеры»; 6 «Пантер» застряли в болоте.
Учащались прорывы оборонительного кольца Ковеля, которые уже нельзя было ликвидировать контратаками, потому что силы для этого отсутствовали. Кольцо окружения все время сжималось. Противотанковых орудий не хватало, а прорвавшиеся танки противника приходилось уничтожать в ближнем бою. Это делали солдаты, не знавшие больших боев и до этого ни разу не видевшие танки противника. Согласно отчету от 31 марта, от имевшихся первоначально 4000 человек оставалось уже 1130. По этим цифрам можно получить представление о жесткости боев и о положении раненых в окружении.
Гарнизон города снабжался только по воздуху. Эту задачу образцово и с готовностью к самопожертвованию выполняли эскадрильи Люфтваффе. С отвагой и большим умением, невзирая на сильный зенитный огонь, самолеты сбрасывали контейнеры снабжения. Также приземлялись грузовые планеры. Легко понять, что большие потребности в снабжении во время интенсивных боев не удовлетворялись подобным образом. Все чаще и чаще поступали сигналы о нехватке артиллерийских и танковых снарядов.
Приказом на прорыв в Ковель командование 2-й армии предусматривало наступление с центром тяжести на правом фланге 56-го танкового корпуса, острием которого должна была стать 4-я танковая дивизия. Из-за непроходимых дорог и деятельности бандитов ее перевод к месту наступления потребовал больше времени, чем планировалось. Потому начало наступления отложили на один день. 42-й армейский корпус должен был выступить в прежнем направлении на восток, одновременно обеспечивая свой южный фланг. Он получил подкрепление в виде двух батальонов лыжных егерей, "штурмового батальона" командования 2-й армии, легкого артиллерийского дивизиона и дивизиона тяжелых противотанковых орудий.
После того, как 3 апреля все приготовления к решающему удару были закончены, силы 2-й армии стояли в полной боевой готовности. Окруженная группа Гилле уже находилась в критическом состоянии.
В этот день командование 8-го армейского корпуса заменило командование 42-го армейского корпуса и приняло его участок обороны. Это решение было принято еще 31 марта, и в связи с этим может сложиться впечатление, что действия в Ковеле командованием оценивались как недостаточно энергичные. В этой связи надо упомянуть о совете начальника штаба группы армий «Центр» командующему 2-й армией. Он предложил назначить командующего запланированным наступлением следующей завуалированной формулировкой - "по возможности, одного из командиров полков 5-й танковой дивизии СС «Викинг»".
Атака «штук» помогла силам 131-й пехотной дивизии занять господствующую лесную местность юго-восточнее и восточнее Кошар. Но разбить врага и занять его позиции не получилось. Танковые гренадеры 2-го батальона полка «Вестланд» и 3-го батальона полка «Германия» должны были довольствоваться лишь занятием важных высот. Русские уверенно оборонялись на этих заблаговременно обустроенных позициях, насыщенных противотанковой артиллерией. С ними ничего не удавалось сделать. Даже танки и штурмовые орудия оказались бессильны.
А вот 4-я танковая дивизия под командованием генерала фон Заукена медленно, но верно продвигалась вперед. Преодолевая упорное сопротивление русских, она через деревню Мощеная (это примерно в 7,5 километрах северо-западнее Ковеля) продвигалась к деревне Дубовое. В начале наступления ее поддерживал 2-й батальон 5-го танкового полка СС с 6-й и 7-й ротами. Вместе с дивизией на критическом правом фланге наступала боевая группа полка "Германия" под командование штурмбанфюрера Дорра. У железной дороги от Ковеля на Брест-Литовск 4-я танковая дивизия снова наткнулась на упорное сопротивление вражеских сил на оборудованных полевых позициях с сильной противотанковой обороной. Наступающая с севера 5-я танковая дивизия также достигла своей цели.
В ночные часы 5 апреля операция по деблокаде окруженной "группы Гилле" продолжилась. Боевая группа Дорра под прикрытием темноты без соприкосновения с врагом дошла до северо-западной окраины Ковеля. 12-й танково-гренадерский полк 4-й танковой дивизии на рассвете атаковал Дубовое и взял его при поддержке 7-й роты 5-го танкового полка СС. При этом сильная противотанковая оборона и артиллерия противника были подавлены. Атакующая группа затем повернула на юг для последнего удара на Ковель. В это же время из деревни Мощеная выступила 6-я рота 5-го танкового полка СС. Она продвинулась в юго-восточном направлении, перерезала дорогу на Дубовое, уничтожила одну вражескую батарею и дошла до северо-восточной окраины Ковеля, где заняла позицию фронтом на восток и на север. Так она прикрывала и поддерживала прорвавшую советское кольцо окружения атакующую группу 4-й танковой дивизии. А ее спину в то время прикрывала 5-я танковая дивизия.
Во второй половине дня основная цель была достигнута: блокаду «укрепленного места» удалось прорвать. На следующий день об этом сообщала сводка Вермахта: «Окруженный с 17-го марта гарнизон города Ковель под командованием группенфюрера СС и генерал-лейтенанта Ваффен СС Гилле с беспримерной храбростью выдержал многонедельный штурм намного превосходящих вражеских сил. Соединения армии и Ваффен СС под командованием генерал-полковника Вайсса и генералов пехоты Хоссбаха и Маттенклотта после многодневных тяжелых наступательных боев в болотах Припяти, в необычайно тяжелых условиях местности, прорвали вражеское кольцо вокруг Ковеля и освободили из окружения своих товарищей».
По оценке 56-го танкового корпуса, на их фланге им противостояли 7 советских дивизий. В большей степени успех был обеспечен усилиями Люфтваффе, которые действовали действительно эффективно. Не в последнюю очередь ими явились бомбовые удары пикирующих бомбардировщиков 1-й воздушной дивизии, которые очищали дорогу ведущей тяжелые бои атакующей группе. Значительный вклад в успешное ведение боев в Ковеле внесли незаменимые помощники коменданта подполковник Раймпель (выполнявший обязанности офицера генерального штаба) и хауптштурмфюрер Кауфманн (офицер-ординарец дивизии «Викинг»).
Сразу после открытия дороги из осажденного города начался вывоз раненых и подвоз снабжения. Во время блокады тяжелейшую задачу снабжения выполнял 55-й воздушный полк, сделавший около 250 вылетов.
Дивизия "Викинг", на бумаге уже считавшаяся «танковой дивизией», оказалась единственным соединением, которое в марте 1944 года в момент наибольшей опасности могло быть брошено в бой против продвинувшихся между группами армий "Юг" и "Центр" Советов. После тяжелых боев в котле под Черкассами и прорыва с непереносимыми человеческими жертвами и утратой всего вооружения, немедленное участие в боях ей было попросту не по силам. На солдат очень давило впечатление от полного, абсолютного поражения и переживания полного бессилия и беспомощности во время прорыва. Вместо страстно желаемого и заслуженного отпуска на родине они снова должны были идти в бой с врагом в тяжелейших условиях. По имеющемуся вооружению дивизия сначала уступала даже бандам партизан. Без организованного управления и снабжения, без своего командира и его штаба, дивизия «Викинг» вынуждена была отдать свои соединения под чужое руководство. Поэтому ее части в боях по деблокированию Ковеля не добились больших успехов, - не считая 2-го батальона 5-го танкового полка СС, который внес существенный вклад в успех всей операции. Однако солдаты дивизии «Викинг» проявили солдатскую доблесть и стали опорой для своих товарищей даже в самых тяжелых ситуациях и в величайшей опасности.
Сразу после боев в Ковеле дивизия «Викинг» вместе с 56-м танковым корпусом, «группой Гилле» и 8-м армейским корпусом получили задание установить новую линию фронта вдоль реки Турья и включить ее в оборонительный фронт 2-й армии. Усилия «группы Гилле» были направлены на то, что создать условия для надежной обороны ключевых транспортных узлов. Подошли подкрепления, в числе которых были 1-й дивизион 5-го артиллерийского полка СС и 5-й саперный батальон СС. В резерве находился 2-й "пантерный" батальон 5-го танкового полка СС. Части дивизии использовались также для поддержки ведущей бои к северу от Ковеля 4-й танковой дивизии (где проявила себя 6-я рота), а также для поддержки наступающего на юге 8-го армейского корпуса.
Период таяния снега не позволял проводить большие операции. В грязи застревали даже гусеничные машины. Существенное улучшение ситуации в Ковеле произошло 17 апреля. Рассекающей ночной атакой, полк «Германия» взял господствующие высоты юго-западнее города, при этом особенно отличился штурмбанфюрер Хаск, командир 3-го батальона. Одна рота вошла в город. С помощью двух "пантерных" рот ей удалось выбить врага с его юго-западной окраины. Спустя 10 дней одна танковая боевая группа, под руководством штаба 5-го танкового полка СС, в составе 2-го батальона и частей усиления поддерживала наступление 8-го армейского корпуса на участке фронта у реки Турья. Несмотря на непроходимую местность, танкам «Викинга» удалось привести эту «операцию Ильзе» к успеху. Об этом было даже упомянуто в сводке Вермахта. При этом были уничтожены те части врага, которые из района западнее Ковеля упорным сопротивлением так долго отражали все попытки деблокирующего наступления с запада вдоль линии железной дороги из Хольма.
В мае бои за Ковель для дивизии «Викинг» закончились. Ее части были выведены с фронта. В следующие недели нам предстояло выполнить совсем другую задачу: завершить переформирование в танковую дивизию и стать готовыми к выполнению боевых задач в новом качестве. Для этого мы получили большое пополнение людьми, приняли новую технику и вооружение, прошли обучение и провели учения. Их значение для ведения операций 5-я танковая дивизия СС «Викинг» должна была подтвердить очень скоро, уже летом 1944 года, после катастрофического развала группы армий «Центр», и этим оправдать дорогостоящее перевооружение.
Нас определили в резервный батальон на Буге. Мы жили в старой польской кавалерийской казарме, очень ужасной по нашим понятиям. Примитивная, с огромным залом. Только 100 кроватей для солдат, и ничего более. Хотя после фронта нам даже такие условия показались достаточно хорошими! Но если представить, что тебе там служить долго, то это уже как-то не очень…
Оттуда меня отправили в Люблин, чтобы я сформировал вспомогательную роту. Это было как раз то время, когда дивизия переформировывалась в районе Кельна, и получала новые танки после Черкасс. Однажды я вернулся назад, - по-моему, чтобы забрать оборудование, - и заодно решил прихватить моего старого знакомого Николая, о котором я подробнее расскажу позже. Мы вместе с ним поехали на машине обратно в Люблин. Нас остановили на контрольном пункте. Впереди был лес, поэтому ехать дальше разрешалось только колонной из нескольких машин. Мы двинулись вместе с грузовиком, который тоже ожидал попутчиков на Люблин. Когда мы поехали, то увидели догоняющую нас гражданскую немецкую легковую машину «Опель-капитан». Некоторое время мы ехали спокойно, потом раздались выстрелы… Партизаны убили моего водителя и человека, который сидел рядом с ним. Мы с Николаем пешком вернулись к контрольному пункту.
Припоминаю и ещё один эпизод с партизанами. В мае 1944-го мне довелось участвовать в одной операции против польских партизан, в качестве командира вспомогательной роты. Меня подчинили коменданту района, какому-то генералу Вермахта. Рота была еще не полностью укомплектована: к примеру, в ней не хватало противотанковых пушек. А в противотанковом взводе должны быть 4 противотанковых пушки. Вместо них мы получили 20-миллиметровые зенитки.
В том районе обнаружилась группа польских партизан. Против них решили направить нас и ополчение, состоящее из резервистов - в основном людей преклонного возраста. Хотя они не являлись настоящей боеспособной частью, но получили приказ атаковать вместе с нами.
Там я допустил большую ошибку. Мы установили 20-миллиметровые зенитки напротив леса и начали стрелять по кронам деревьев, потому как мне показалось, что партизаны прятались на деревьях. Если мы добивались попадания в нужное дерево, то оттуда падал партизан.
Основной проблемой в том эпизоде для меня стали резервисты, потому что с этими ополченцами вообще ничего не получалось! В моем противотанковом взводе (который должен был получить противотанковые пушки, но так и не получил) служили фламандцы - очень молодые и очень хорошие, милые молодые парни. Я приказал этому взводу открыть огонь по лесу с целью прощупать партизан и спровоцировать их на ответный огонь, чтобы узнать, насколько сильна оборона. Но эти молодые парни оказались слишком быстрыми и горячими. И хотя я им приказал действовать очень осторожно, и начинать только после подготовительного огня, они не послушались, сразу пошли в лес и все попали под огонь. Результат - трое погибших. Для меня это явилось абсолютно ужасным событием. Я похоронил их в Люблине. До сих пор об этом думаю, ведь я приказал им ждать, пока я не открою огонь, и не атаковать одним. Вероятно, мне надо было находиться рядом с ними.
Кстати, мы там так и лежали до наступления ночи, просто как заслон. Нам указали сектор, в котором у нас были позиции, а нашим соседом, как я слышал, оказался батальон кавказских добровольцев. Такие назывались «Ост-батальоны». Ночью партизаны прорвались, но уже не на нашем участке. Они действовали мастерски. Некоторые из них попали к нам в руки, но не из леса, а снаружи. Один человек хотел пробежать в лес к партизанам, мы взяли его в плен и допросили. Он рассказал, что он учитель и ищет какие-то камни. Я еще подумал – «Что-то тут не то. Он ночью в темноте ищет камни - это же глупо». Тем временем к нам подошел полицейский батальон. Я им доложил, что у нас один подозрительный, вероятно партизан, и они его забрали. Оказалось, что он врач в польской народной армии «Армия Крайова». С такой легендой он хотел пройти к партизанам и вел себя у нас очень энергично. Дальше им уже занимался полицейский батальон, и я не знаю, чем это закончилось.
Я хорошо запомнил 20 июля 1944 года, день покушения на Фюрера. Как я уже рассказал, после Черкасс нас снова переформировали, очень хорошо оснастили, как танковую дивизию. Но как раз тогда, в июле, произошла катастрофа: центральный участок фронта в июле просто развалился. Появилась очень большая дыра между группой армий «Юг» и группой армий «Центр». В эту дыру и послали нас. В ней ничего не было: ни перед нами, ни позади нас. Там вся моя рота окопалась, мы, как обычно построили позицию, командный пункт, наверху поставили антенну. И тут как раз приходит сообщение: «Покушение на Фюрера. Предательство!» Мы подумали – «Ну как так можно? Мы с таким трудом воюем, а сзади предательство, удар в спину». И тогда это было не только моим мнением, но и многих других.
Но сейчас я так больше не думаю. В этом вопросе я разорван на две половины. С одной стороны, свергнуть Гитлера было необходимо в любом случае, а с другой стороны, произошла бы ужасная гражданская война и мгновенный развал Германии. Потому что люди, в основной своей массе, не понимали ничего. Они не знали, почему офицеры так поступили, они не знали причин. И мы не знали! Убийства евреев, концентрационные лагеря, айнзацгруппы - об этом я узнал только после войны. Мы на фронте об этом вообще ничего не знали. Ноль! Понимаете, это трагедия!
- После 20 июля появились национал-социалистические руководящие офицеры?
- Да, национал-социалистические руководящие офицеры. В СС-совских частях их не было, а то стало бы еще хуже. А в армии, да. Это были молодые офицеры, - я так думаю, уровня лейтенанта или обер-лейтенанта, национал-социалистически воспитанные, убежденные…
В сентябре 1944-го года я стал командиром сапёрного батальона. А 10 октября началась «Третья оборонительная битва». Я тогда поехал к дивизионному командиру, чтобы спросить, нужен ли я кому-нибудь, что делать моему батальону, какие задачи, к чему мне готовиться? Гилле сказал мне: «Вы получите новое задание на командном пункте. Сегодня ночью примите под командование батальон быстрого реагирования. Роты переподчинены, и теперь вы командуете этим батальоном». Заметив мое удивление, он добавил к сказанному, что в саперном батальоне сейчас нет нужды и нужно решать другие проблемы.
Всех подняли по тревоге, и вокруг меня собралось около 400 человек. Еще оставалось немного времени, чтобы съездить в мой старый батальон и сообщить, что ими пока будет командовать мой адъютант. Затем я вызвал моего офицера-порученца с бронетранспортером. Он вернулся и привез мои личные вещи, так что обратно я уже не возвратился.
В ту же ночь мы заняли передовые позиции. Ночью я расставил роты, назначил ответственных командиров, и прочее. Наутро начались артиллерийские обстрелы. Сначала пропала связь, потом появились первые раненые и убитые. Я сразу же выслал посыльных, прежде всего из-за раненых, но они не возвратились обратно. На моем командном пункте в погребе лежали раненые, трое или шестеро из них были с тяжелыми ранениями в живот. Этот кошмар продолжался целый день. Наконец стало темно. Фронт передо мной распался. Я больше не мог руководить моими солдатами. Многие из них были ранены, другие же попросту ушли. Вокруг моего командного пункта собралось примерно 40 человек. Я задумался о том, что мне делать дальше? У меня не было приказа, не было связи, мы были отрезаны. Поэтому мне нужно было действовать самому. Я решил, что вероятно, я должен отступить с этой позиции, но это произойдет только завтра утром. А сегодня ночью мы еще удержим мой командный пункт. Но надо было как-то отправить раненых.
Водитель моего бронетранспортера был отличным парнем. Я решил довериться ему. Все было поставлено на одну карту. Мы начали грузить жутко кричащих раненых в бронетранспортер. Водитель нашел дорогу и смог их вывезти. Оказалось, что за нами появилась пока еще только разведка русских, и эта территория еще была свободна. Пока я разбирался с ранеными, к нам на помощь подошли свежие части. На момент их подхода наш батальон быстрого реагирования уже не существовал как боевая единица. На третий день разбежался 2-й батальон «Германии»! А их перед этим боем только что снова переформировали!
По возвращении назад в батальон я первым делом помылся, и смог выспаться ночью. Утром приходит приказ - снова вперед, принять 2-й батальон, командир которого ранен. То есть теперь я уже командовал не батальоном быстрого реагирования, а 2-м батальоном. Даже нет желания рассказывать. Дальше было еще хуже…
Первую позицию мне пришлось оставить. После этого я получил в поддержку бронетранспортер и штурмовое орудие. Советские танки не могли атаковать через лес, поэтому там я чувствовал себя в относительной безопасности. Но мне пришлось на них выехать самому. На правом фланге проводилась атака наших танков, и они запросили поддержки. Что там происходило дальше, вспоминается с трудом. Я только помню, что в этот первый день мы заняли кладбище. Потом меня оттуда выбили. Но мы тут же провели контратаку. Каждый раз я его снова отвоевывал, и так по два-три раза в день, - туда-сюда.
В конце концов, в результате понесенных потерь батальон уже должен был выйти из боя, и нас отвели назад на резервную позицию. И тут на меня возложили обязанность защищать эту резервную позицию с остатками батальона. Но я не мог принять на себя такую ответственность. В батальоне уже не осталось ни одного офицера, да и вообще никого не осталось. Мне оставалось только лично самому лечь за пулемет. Я попытался это объяснить своему командиру. Он очень долго возмущался, но все-таки сменил меня.
- Сколько вы держали эту позицию?
- Примерно с неделю. В любом случае, прорыв в этом месте у врага не получился. Русские продвинулись только на три километра и прекратили дальнейшие попытки. После этого наступила тишина.
А в Венгрии мне довелось участвовать в атаке… Понимаете, обычно саперам не ставили задачу идти в атаку. Но в том случае, 18 января 1945 года, я получил приказ взять один из этих труднопроизносимых населенных пунктов возле какого-то канала. Неподалеку от него находился второй населенный пункт, занятый Советами. За ними шла дорога, которая вела в сторону Дуная. Слева от нас, выдвинув вперед танки, стояли передовые отряды полка «Германия». У них еще в тот день погиб командир полка…
У меня сохранилось 6 броневиков. Третья рота была танковая, а остальные - моторизированные. Всего, вместе с ротой на «Пантерах», у нас набиралось порядка 8 танков. Я имел приказ взять населенный пункт, закрепиться в нем, затем развернуться и взять под контроль дорогу. Все это предполагалось осуществить для того, чтобы наши окруженные части смогли выйти по этой дороге из окружения. Но проблема была в том, как это осуществить. Русские очень грамотно выставили на высоте перед населенным пунктом три или четыре противотанковых пушки, и с их помощью отлично контролировали местность. Мы поступили очень просто, поставили броневики вперемешку с танками и поехали на высоту.
Помню, поначалу мы, слегка замаскировавшись, стояли на неубранном кукурузном поле. Я тогда еще подумал: если мы будем двигаться, то они не смогут по нам прицельно стрелять. Так и получилось, мы продолжили атаку, и русские исчезли.
Высоту мы захватили. Однако сразу же последовала контратака с соседнего населенного пункта, и нас оттуда выбили. Мы откатились обратно на равнину, примерно на два километра, и снова заняли позицию. Но что важно, пока мы воевали с Советами за эти населенные пункты, наши части пробились и все смогли спастись.
Затем последовал следующий приказ, который мне никогда не понять: на ночную атаку на броневиках и штурмовых орудиях. Понимаете? Два или три штурмовых орудия, с моими броневиками, ночью должны были занять позицию. А Советы были окопаны…
Я с броневиками доехал до их позиций, но они снова заставили нас отступить. Они массировано применили эти легкие противотанковые ружья! В бою против этих противотанковых ружей у нас получился полный идиотизм! В свете ракет мы смогли поджечь одно советское штурмовое орудие. И я отчетливо помню, как в огне этой горящей советской самоходки мы обнаруживаем вторую. Она отходит! Из орудия нашего броневика я смог несколько раз в нее попасть.
В этом бою мой командир роты получил ранение осколком, а вот мне опять повезло… Помню, в этот день 18 января мы готовились к очередной атаке… Постоянно сыпались доклады: что тяжело, что есть потери, что ситуация критическая, и так далее. До нас на том участке целый день пытался пробиться полк «Вестланд». Они не смогли преодолеть проволочные заграждения, и докладывали, что одна из линий под электрическим напряжением. Но мне это кажется сомнительным. Сегодня трудно об этом судить, но я не могу представить, чтобы русские тогда стали этим заниматься, и это бы хорошо работало. По-моему, это не практично.
Помнится, еще вечером мы ставили свои укрепления в районе прорыва русских, а потом события замелькали как в калейдоскопе, - и мы очень быстро докатились до Дуная…
Но именно тогда, в 1945-м в Венгрии, я сам один раз наблюдал странную историю перебежчика, - и там, где мы этого совсем не ждали. Проводилось какое-то частное наступление советской дивизии. Я должен был с моим батальоном контратаковать танки русских и занял населенный пункт. Мы взяли в плен одного офицера, допросили его и отправили доклад в полк. В момент, когда я закреплялся на новой позиции, началась вражеская атака. Советские танки атаковали с другой стороны населенного пункта. А мы этого не ожидали, и нам снова пришлось быстро отступить.
Мы стояли посередине поля. Все было тихо, Советы больше не атаковали. И тут я вижу одиночного советского солдата, который бежит к нам со стороны фронта. Это явно был советский солдат, но шлем на нем сидел как-то криво. И тут выяснилось, что у него под шлемом фуражка и это лейтенант. Он пришел, и заявляет: «Сталин капут». И это в 1945 году! Ну, кто же в 1945 году перебегает? Вы же уже победили! Кстати, этот лейтенант оказался очень наглым.
Я стоял между бронетранспортерами с двумя посыльными, один из которых говорил по-русски. Решили русского лейтенанта пока оставить здесь, а потом отвести его в тыл. А если он попробует бежать, то мы будем стрелять без предупреждения. Мы его об этом проинформировали, и он воспринял это нормально. И тут один мой солдат ему говорит: «Эй, ты, иди сюда». Тогда этот лейтенант обратился ко мне: «Я офицер. А он не офицер, почему он смеет мне так говорить?» Я удивился - ну и дела! Ну, правда, мне пришлось сказать солдату: «Да, пожалуйста, дружище, полегче».
Вечером я отошел назад, к базе снабжения. Мы сидели в большом крестьянском доме. Нас накормили, и надо сказать, накормили всех одинаково. Каждый получил по котелку, включая и этого лейтенанта. Я сижу, ем, и вдруг он говорит: «Мне невкусно!» Ха-ха… Я ему говорю: «Послушайте, я Вам рекомендую съесть то, что Вам дали, потому что другого ничего нет. И кто его знает, что Вас ждет завтра».
Интересный все-таки попался человек. У него хватало наглости говорить, что еда несъедобная. Он меня очень заинтересовал, но, к сожалению, заниматься с ним не было времени.
- Перебежчики с русской стороны часто были?
- В таком стиле - нет. Были просто пленные.
- А с немецкой стороны на русскую были перебежчики?
- Вообще ни одного. Из нашей дивизии СС, я думаю, точно. Мало того, - я думаю даже в Черкассах никто не перебежал! Хотя там один из командиров наших подразделений попал в плен, - это стало предметом разбирательств, и мы сами себя спрашивали, не перебежал ли он. Ну, конечно, могло быть, что один или два человека перебежали, но я этого не знаю.
- У вас были «хи-ви»?
- Да! Был мой личный опыт с неким Николаем: про него есть смысл рассказать. Летом 1943-го, когда я командовал эстонцами, брали много пленных, которых во время отступления отводили в дивизию, и некоторых использовали для того, чтобы нам помочь. Однажды пришел приказ - всех используемых на работах отправить в лагеря для военнопленных. Я выдвинулся к моему обозу и полевой кухне, чтобы все проверить и проконтролировать. Там работало примерно 20 пленных. Я приказал им собраться и сообщил им о том, что происходит. А затем спросил, не хочет ли кто-нибудь остаться у нас в качестве «хи-ви», с такими-то и такими-то заданиями, без использования в боях. Ни один не отказался! Потому что жизнь у нас была лучше, чем в лагере военнопленных! Они это понимали, и я это понимал. Там стоял один юноша по имени Николай. Не знаю, почему он мне приглянулся. С того момента он всегда был со мной в качестве «хи-ви». Где бы я не находился: на позициях, в обороне, в дороге, он всегда находился рядом со мной и помогал мне. А когда мне не нужна была помощь, он возвращался на полевую кухню. Так продолжалось долгое время.
В ноябре вместе с ним мы лежали в грязи, когда перешли Днепр перед Черкассами. Там, под Черкассами, оказалось партизанское гнездо, которое мешало нашему снабжению, и мы никак не могли его уничтожить. Там Николай всегда находился возле меня. Тогда между нами возникли какие-то личные отношения, - и прежде всего в котле. Ко мне часто заходили товарищи, командиры. Николай стал им всем хорошо знаком. Вечером перед прорывом из котла я думал, а что же мне делать с Николаем? Пришлось обратиться к нему: «Слушай, Николай, мы прорываемся, это наш последний шанс. А ты оставайся здесь. Когда тебя возьмут в плен, скажи им, что ты немец, скажи немецкое имя, может быть у тебя будет больше шансов выжить». Но он отказался, и заявил, что идет вместе с нами. У меня тогда с собой была маленькая сумка с хлебом и личными вещами. Я отдал ее ему и сказал: «Николай, я не знаю, выберемся ли мы оба отсюда. Если будет тяжело, то можешь бросить мою сумку. А если не выбросишь, то хорошо».
Мы оба пробились в первой волне, 16-го, он постоянно находился рядом со мной во время прорыва, мы бежали вместе под пулеметным огнем… Но потом Николай исчез, и мы какое-то время не виделись. После прорыва я попал в полевой резервный батальон. Такие батальоны собирались в разных местах из остатков частей, вышедших из котла. Когда я туда попал, пришел врач – «О! Поздравляю, вам повезло!» Они считали, что я погиб. И тут кто-то крикнул: «Николай!», - и тут он выходит из комнаты. Даже сейчас я думаю, - как это было здорово, что мы снова увиделись. Он был такой верный.
С ним запомнился еще один эпизод. После того, как мы там собрались, всех посадили в товарные вагоны. Ехало очень много офицеров. С нами поехал Николай. Поезд останавливался на станциях, и там можно было получить кофе. Все офицеры просили Николая: «Николай, сделай это, сделай то». Наверное, я должен был сказать: «Прекратите»… В Жмеринке состав остановился у большого вокзала, Николаю что-то сказали принести, он выпрыгнул из вагона. Поезд тронулся, и тут я заметил, что Николая нет. Я очень запаниковал, но на следующей станции поезд остановился, - а на платформе стоял Николай. Он сел в другой поезд, который ехал в этом же направлении.
Потом все лето, и пока меня не назначили командиром саперного батальона, он был со рядом мной. Дело уже шло к Рождеству 1944 года, когда он вдруг заболел. Он все время кашлял. Я решительно отправил его к врачу. Он этого не хотел, но, в конце концов, я ему это приказал и сам позвонил врачу, чтобы он о нем позаботился. Врач диагностировал дифтерию. Его сразу же отправили в госпиталь. В это время я получил дополнительный отпуск от Гилле, потому что моя жена тоже заболела. А когда я вернулся обратно, доктор мне сообщил, что Николай умер. Это случилось, потому что он попал в больницу слишком поздно. В Венгрии я уже воевал без него.
Ещё одну курьезную вещь мне рассказал мой товарищ, который был командиром танковой роты в полку «Германия». Зимой 1941 года в Петрополе взяли группу русских пленных. Несколько человек оставили на кухне. Один из них оказался очень веселым и совершенно неунывающим человеком. Он быстро перезнакомился со всеми, всем помогал, и вообще через некоторое время чувствовал себя у нас как дома.
Зимой 1943 года в тяжелых боях южнее Ростова, он опять попал в плен! Но на этот раз уже в советский. А уже в 1944-м после боев в районе Истлунда мимо «Германии» проходила колонна русских пленных. Наши танкисты сидели на броне ехавших к линии фронта танков и поглядывали на проходящих мимо русских. Вдруг один из русских командиров закричал моему другу: «Оберштурмфюрер, как поживаете? Вот мы снова с вами увиделись!» Это был тот самый «хи-ви», который работал у нас на Миус-фронте! Оказалось, он снова попал в армию. Мало того, он стал лейтенантом, и вот опять попал в плен! Ха-ха! Хауссман снова забрал его к себе…
- Когда во время войны вы поняли, что война проиграна?
- Во-первых, мы много об этом и не думали. Но определенно, с 1943 года это стало чётко понятно.
- Когда вы поняли, что война закончилась?
- В Штайермарке, в день капитуляции. 8 мая это стало известно, и мы смогли избежать попадания в советский плен. Но 10 мая мы сдались в плен к американцам. Американцы стояли и кричали: «Бросить оружие! Америка!» (говорит с американским акцентом) Да, нам надо было смотреть внимательно, чтобы не попасть в Сибирь!
- Вы не боялись, что из-за СС-совских знаков различия с вами будут хуже обращаться?
- Какие знаки различия вы имеете в виду? Ах, татуировку. Нет, не боялся. Мы тогда об этом не думали. Но знаете, когда мы попали в плен, нам нужно было говорить, что мы - Ваффен СС.
Американцы нас сначала туда-сюда перевозили. В конце концов, нас отвезли в английскую зону, где всех пленных разместили в Дахау и Хаммельбурге. Я оказался в Хаммельбурге. Сейчас там армейские казармы. Сначала я побывал в этом лагере в качестве военнопленного, - а потом, будучи подполковником Бундесвера, приезжал с инспекцией. И так у меня получилось и этак – и военнопленный, и инспектор. Всех военнопленных с домашними адресами из северной Германии, передали англичанам.
В марте 1948 года меня оттуда отпустили. Но затем я оказался снова приговорен к полугоду тюрьмы, - потому что знал, понимаете ли, о четырех концентрационных лагерях. По-моему, этот процесс был – полное сумасшествие. Меня спросили, что я знаю о концентрационных лагерях. А тогда все знали о Дахау, Ранненбурге и Бухенвальде - они были на слуху еще в мирное время. Аушвиц появился во время войны, поэтому о нем знали не все. Вот тут бы мне промолчать про Аушвиц, а я по своей наивности назвал все четыре. Суд записал…
Потом появился «свидетель». Мои родители жили в маленькой деревне в Мекленбурге, я там два года проучился в школе. Но в нее мне приходилось ездить по железной дороге, поэтому я через некоторое время переехал на восток к моему дяде, учителю. Там, с 1929-го по 1934-й год, я посещал среднюю школу. А на каникулы возвращался в Мекленбург, в деревню, где меня все знали. Это была очень простая деревня, в ней жили очень простые люди, которые ездили работать в порт в Гамбурге. Сначала в деревне не было национал-социалистов, большей частью социал-демократы, - не совсем коммунисты, но тоже левые. А когда в 1932-м году все поменялось, большинство тут же стало национал-социалистами. О коммунистах речи не шло вообще!
И на суде мне вдруг зачитывают свидетельство теперешнего бургомистра, да еще выясняется – коммуниста. Становится понятно, что в деревне жил один коммунист, и это тот человек, которого никто никогда не уважал! Он начал говорить, что Хедер приезжал в деревню, занимался пропагандой против евреев, и так далее. В общем, ужасно. Я пытался говорить, что меня там быть не могло, я был на войне.
Вызвали нового свидетеля. Им оказался один из деревенских крестьян, который заявил, что ему об этом ничего не известно.
Я старался много не разговаривать, потому что не знал, к чему они клонят. «Вы вступали в преступную организацию СС?» - «Я был на фронте»…
От имени народа вынесли мне приговор с формулировкой – «Знает о существовании четырех концентрационных лагерей, так же предполагается следующее: так как он носитель Рыцарского креста и командир батальона, значит, является нацистом». Вот и все мое преступление. Приговор - 6 месяцев тюрьмы! Однако снизу приписали: «Срок отсидел, когда был интернирован».
Потом я поступал в Бундесвер, и во время первого разговора с начальником отдела кадров, меня спросили, был ли я осужден. Я честно ответил, что да. Получалось, с судимостью стать офицером Бундесвера я не могу - у меня за спиной полгода тюрьмы. Но они сказали, «Ну, это же не поражение в правах…»

- Американцы в плену вас спрашивали о вашем опыте войны с Советским Союзом?
- Нет. Вероятно, мой опыт их не заинтересовал.
- Бывало, русские офицеры часто предпочитали застрелиться, чем попасть в плен.
- Да.
- У вас такие офицеры были?
- Во-первых, сам я лично такого не видел. Во-вторых, с самого начала прорыва из котла в Черкассах я взял гранату и положил ее к себе, - и взорвал бы ее. Но сегодня я думаю, что если бы в тот последний момент передо мной появился бы советский солдат… Я бы все-таки не стал ее взрывать, и все-таки решил бы остаться в живых. Так я думаю сегодня. Не знаю, готов ли я был тогда это сделать…
- А в 1945 году вы не собирались покончить жизнь самоубийством?
- Ни в коем случае. Я сдался в плен и меня интернировали. Такие мысли меня посещали только на советском фронте.
- Как вы восприняли капитуляцию, как поражение или как облегчение?
- И поражение, и облегчение. Но я должен добавить, что первая моя мысль была такая: «Господи, такой путь - и все было напрасно!» Да, именно так… К этому надо добавить еще одно – разочарование!
- А сейчас, вы также это воспринимаете?
- Все-таки – да, так же. Нас до сих пор спрашивают молодые немцы: «Как же вы могли сражаться, если вы знали?» Только… Послушайте, я же был офицер, я давал присягу. Что я мог сделать? Мы воевали с честью, понимаете? С честью! Сегодня этого никто уже не может понять. Я их спрашиваю, что они могли бы сделать? Не было никаких других возможностей. Для немецких солдат никаких других возможностей не было! Если только они не хотели перебежать.
- Это мнение настоящего солдата.
- Да, - как это можно, перебежать перед своими собственными солдатами? Мне это в голову никогда не приходило.
- Что такое хороший солдат? По характеристикам, по вашему мнению, в принципе, - что такое хороший солдат?
- Который воюет, осознавая свой долг, который подчиняется, и который может действовать самостоятельно!
У меня один раз был случай с эстонским солдатом. Я был болен и находился в обозе, отдыхал. Вдруг я услышал шум и крики. Тут же вышел посмотреть. Там бегала женщина и один солдат. Я подумал – это изнасилование или что? И точно, один солдат попытался это сделать. Тогда я построил мою роту и объяснил им, что я здесь командир роты, - достойной роты. А когда такое происходит, то это стыд и позор. И добавил: «У меня не большевистская рота, мы такого не делаем». Да, я так сказал. И после этого, как я это сказал, вышел один солдат и сказал: «Я протестую, это оскорбление». Видите ли, они сразу поняли, что я им хотел сказать – «Ага. Это хорошо, что вы возражаете. Значит, вы понимаете, что я имею в виду. Чтоб вот таких вещей у меня больше не было».
Если уж мы заговорили про изнасилования… Я сожалею обо всех этих разговорах об ужасных массовых изнасилованиях Красной Армией сотен тысяч немецких женщин. Этого, конечно, не было. Например, я по телевизору видел - там сказали, что эту тему нельзя замалчивать, но тут же добавили, что да, немцы тоже это делали. Вы понимаете? Меня это просто возмутило! Когда бы мы могли это сделать? У меня летом 1944 года, когда я командовал вспомогательной ротой, и мы отступали, роту разбили в клочья. Мы на мотоциклах собрались сзади и получали питание. Собрались мои посыльные на мотоциклах из ротного отделения, и они разговаривали между собой. И я вдруг слышу, как один говорит о солдате, которого всегда надо было контролировать, - что он где-то слишком много выпил и попытался кого-то изнасиловать. Я это послушал и отправил его с отчетом о произошедшем случае в дивизию. Там того человека судили военным судом и приговорили к штрафным работам. Разумеется, я должен был так сделать! Но я тогда подумал: «Только бы его не приговорили к смертной казни, а то моя рота должна будет его расстреливать, и мне придется выделить расстрельную команду». К счастью, этого не произошло. Про него я больше ничего не слышал. Это же было не состоявшееся изнасилование, поэтому его не расстреляли.
- Вы кого-нибудь отправляли в штрафные батальоны?
- У меня лично не было на это полномочий. И штрафных батальонов у нас не имелось. У нас был взвод исполнения наказаний. Если у кого-то было дисциплинарное наказание, - допустим, арест, - и если человека не судили, то сидеть под арестом ему оказывалось негде. Тогда его посылали в этот специальный взвод исполнения наказаний, где он находился при батальоне саперов. Вот такое у нас применялось наказание.
Я помню только один случай. Командира роты из соседней дивизии заподозрили в трусости. И то, ситуация тогда сложилась не понятная. Он по какой-то причине просто вернулся с передовой в обоз. Его за это разжаловали. Я его знал со школьной скамьи. Когда я был рекрутом, он был уже адъютант. А теперь в Успенской меня вызывает командир батальона и сообщает, что он разжалован, его посылают ко мне, и он должен у меня пройти испытание на фронте. Пришлось рассказать моим солдатам, кто он такой, и определить его в отделение к моему лучшему унтер-офицеру.
Я объяснил солдатам: «Его послали к нам на испытание, и ситуация, из-за которой его наказали, до сих пор неясна. Поэтому относитесь к нему хорошо и помалкивайте». Они все так и сделали - я это контролировал. Если нужно было кого-то послать в разведку, его всегда приходилось туда определять. По совести, мне казалось это неприятным, он и так всегда храбро воевал.
Я вам рассказывал про бой с танками в Стояновке. Там сложилась довольно напряженная ситуация. Наша небольшая танковая группа въехала прямо в гущу русских танков… В общем, его командиру отделения отстрелили руку. И этот штрафник спас его, помог залезть на танк, и так далее. Командир отделения после боя написал отчет о том, что наказанный вел себя очень смело, и его нужно реабилитировать.
Я его потом снова встретил в 1944-м году. Он уже служил в соседней дивизии, но еще не стал опять капитаном, а был обер-лейтенантом.
- Немецкие ветераны говорят, что советский солдат был хороший, а командование было плохим. Вы можете это подтвердить?
- Командование у русских не было хорошим. Но знаете, я считаю (и это общее мнение), что начиная с 1943-го, и особенно в 1944-м году, армиями командовали уже хорошо. Начиная с 1943 года, это абсолютно точно. Но также, когда я сегодня думаю про котел в Черкассах, - ведь там было два фронта, Ватутин с севера и Конев с юга - и они не были скоординированы. Два фронта! А у нас было окружено всего два армейских корпуса. Шесть русских армий, или я не знаю сколько, и два корпуса! Хорошо, я соглашусь, окружение провели очень умело. Но вот закрытие провели не скоординировано. По-другому я не могу себе это объяснить. Потом Ватутин умер или погиб, и начал командовать Жуков. Жуков тоже делал не очень хорошо, мне так кажется.
- Какое у вас впечатление о русских солдатах?
- Они необычайно храбрые и выносливые. Они были намного сильнее немцев в своих способностях сражаться на холоде и в голоде. Мы взяли столько пленных в 1941 году только потому, что они были антикоммунисты, а не потому, что нельзя было сбежать. Уверен, что основная часть была плохо мотивирована, и они не верили коммунистам. Конечно, хватало и тех, кто верил, но я думаю, что основная масса русских не была так сильно мотивирована, как мы, немцы.
Немецкие солдаты воевали, не осознавая того, что евреи будут убиты. Понимаете, мы об этом не знали. Мы не думали, что Советы должны нас уничтожить. И если бы мы шли освободителями, мы бы выиграли. Я так думаю сегодня и это мое твердое убеждение, что советский фронт бы развалился, если бы Гитлер и мы вели бы себя по-другому. Но в то время велась борьба мировоззрений, и другого пути у нас не было. Россия, как и мы, хотела сохраниться как нация.
Знаете, я вспоминаю массы бедных людей, которые бежали вместе с нами зимой с Кавказа. Представьте, между танков на телеге едут мужчина и женщина. А с ними лошадь, мышка, кошка. Мы тогда думали – «Ради бога, оставайтесь, не ходите с нами!»
Я сегодня думаю, что при другом нашем руководстве, Сталин никогда не победил бы, а Власов имел бы успех.
- В чем вы видите превосходство немецкого солдата над русским? Каковы сильные стороны немецкого солдата?
- Самостоятельность - это главное. Отдельный солдат был несколько сильнее в инициативе! Это, вероятно, зависит от воспитания. Коллективное мышление является недостатком русских солдат, мне так кажется. У немцев воевали отдельные солдаты.
- За что воевали лично вы?
- За Германию. Только за нее. Подождите. Надо быть честным. Тогда я не был против Гитлера. Тогда! Я считал, что это он добился всего, он это сделал. Гельмут Ферзаг сказал: «Гитлер один сделал нас сильными». Хотя у него присутствовала и критика Гитлера…
Мы думали, что потом будет лучше, - но сейчас война, нужно защищаться и сейчас нам нельзя ссориться. И мы боролись. Французы и англичане объявили нам войну, но мысль о войне с Советами оставалась, потому что они нам постоянно угрожали. Мое твердое убеждение, что Сталин нас к этому привел, потому что Сталин знал, что у него есть шанс, пока немцы бьются с англичанами. Сегодня я уверен в том, что мы его этим нападением опередили. Через пару месяцев нас могли бы удивить.
Выступление против Советов явилось шагом отчаяния. Но то, что я сказал - очень спорно. Об этом в Германии до сих пор ведутся споры. Но я не хочу в этом участвовать, и не хочу говорить им мое мнение.
- Русские говорят, что с 1943 года «немец пошел не тот».
- Конечно, мы стали не такими. Это неизбежно, особенно если ты все время отступаешь. К тому же, перевес сил на их стороне был слишком велик. Американцы много пишут о ходе последней войны. Один из них написал, что немецкий солдат был лучше всех еще на Первой мировой войне. Ему вторит израильтянин Ван Клифельд, он пишет то же самое: «Это невозможно понять, как немецкий солдат боролся при поражении. Уже давно было известно, что он побежден, а он все равно боролся. Американцы спрашивают, откуда это?»
Я понимаю заявления русских солдат, когда они говорят, что с 1943 года мы стали другими. В 1941-м и летом 1942-го мы были мотивированы как антикоммунисты. Но сопротивление резко усилилось, когда Сталин очень удачно превратил все это в отечественную войну. Тогда многие, и даже антикоммунисты, сказали: «Все. Теперь речь идет о защите России!» Тогда русский солдат внутренне приблизился к нам, а мы потеряли мораль во время постоянных отступлений.
Когда ты все время отступаешь, то ты несешь необратимые потери. Русские потери были, конечно, выше: примерно один к десяти. Но нас не устраивал даже такой расклад. Я лично чувствовал, что, черт возьми, неужели мы не можем воевать лучше?
- Уровень подготовки пополнения во время войны падал?
- Я не помню, честно говоря. Они очень быстро интегрировались. Даже если они не были достаточно обучены, это постепенно уравнивалось. Конечно, они приходили не такими хорошими, как в начале.
- Насколько сильна была национал-социалистическая пропаганда в вашей дивизии?
- Мне никто не верит. В Германии я не могу этого доказать. Ее, собственно, совсем не было. В боях у нас не имелось к этому никакого интереса. Думать в бою о том, что там еще Гиммлер сказал идиотского? Нет уж…
У нас в юнкерской школе проходили уроки мировоззрения, и я тогда написал самую лучшую работу, она стала самой короткой и простой. Вам, как историку, я могу сказать. Чем был собственно национал-социализм? Этого никто не может сформулировать. Если вы возьмете марксизм, это уже целая система. А если вы меня спросите, что такое национал-социализм с его составными частями: расизмом, антисемитизмом и прочим? Я вам отвечу, что это тоже не было всегда так однозначно. Происходили и позитивные вещи, с социологической точки зрения. Допустим в том, что касается, равноправия, не имелось никаких сословных различий.
- Аристократия-то была?
Конечно. И в СС были аристократы. Много, и это были очень известные фамилии.
- Слова "окончательное решение еврейского вопроса" вам были знакомы?
- Нет, вообще нет. Это абсолютно не ясно. Мы об этом много думали. Даже название Аушвиц мы не знали. Но что касается преследования евреев… Конечно, мы знали про концентрационные лагеря. Мы знали, что там евреи, противники нацистов, коммунисты - это было известно. В Люблине, когда нас переформировывали в 1944 году, мне вдруг стало ясно, что мы получали вещи, которые для нас ремонтировали в концентрационном лагере. Но я не знаю, были ли это евреи или нет. Просто человек в лагерной одежде передал какие-то вещи, которые отдавались почистить или что-то в этом роде.
Еще я хочу сказать, что в 1941 году, во время формирования нашей дивизии, когда нас привезли в южную Германию, мы оказались недалеко от Дахау. Однажды командир роты сказал, что сегодня мы едем в Дахау посмотреть концентрационный лагерь. Мы, четыре офицера в униформе, подъехали к воротам… Но нас не пустили!
Потом, в качестве интернированного, я многие месяцы мог совершенно не спеша осматривать Дахау.
- Вы можете прокомментировать отношения СС и Вермахта?
- Ну, что мне сказать? Сначала мы шли в бой с мыслью о том, сможем ли мы драться также хорошо, как Вермахт? Мы понимали, что они нас серьезно не воспринимают. Но лично у меня не происходило таких случаев, где бы нам прямо давали это почувствовать. Потом ситуация медленно изменилась, нас начали воспринимать серьезно.
Где-то Венгрии, когда нас опять окружили, и мы опять тяжело выходили из окружения, мы прорвались к немецкой линии фронта. Там стояла танковая или кавалерийская дивизия. В ней оказался один подполковник Вермахта, который обращался со мной очень несправедливо. Я был на одно звание ниже, но у меня имелся Рыцарский Крест, и я сказал ему: «Мой дорогой господин подполковник, пожалуйста, мне нужна информация, проинформируйте меня по делу».
Но не принимайте это слишком сильно всерьез: я это очень смутно помню и возможно в тот момент я оказался слишком чувствительным, и мог неправильно воспринимать окружающую действительность.
- Потери от советских «катюш» были большими?
- Относительно. В поле потери обычно не большие. Запомнился результат их воздействия в городе, в Красноармейске - они разрушали крыши. Еще запомнился результат от удара «Катюш» на Кавказе. На Тереке моя рота шла в резерве и следовала за атакующим батальоном. Это происходило в Малгобеке. Вокруг стояли нефтяные вышки, и нефть из них разливалась вдоль дорог. Мы попали под тяжелый огонь танковых орудий. Русские закопали свои танки, и они стреляли очень точно. Нам постоянно приходилось прятаться за насыпью. Мне надо было установить связь с командиром батальона. Я связался с Диккманом и доложил ему обстановку, и он ответил: «Оставайтесь сзади, будьте спокойны - мы достигли наших целей».
Из занятого нами квартала вышла толпа пленных русских, совершенно без всякой охраны. Обычно когда мы брали пленных, мы говорили им, чтобы они шли в определенном направлении. У нас по обыкновению не имелось людей, чтобы их охранять. Пока мы решали, что нам делать с пленными, русские заметили эту толпу и прислали нам несколько зарядов «сталинского органа». Один из них угодил прямо в кучу сдающихся. Кроме них было ранено несколько человек из взвода охраны. Я стоял с моим командиром ротного отделения, и получил небольшой осколок в зад. Опять легкое ранение, мне повезло.
Но katjuscha была очень опасной. При прорыве в Черкассах по нам постоянно стреляли с двух сторон.
- Русская авиация доставляла неприятности?
- Собственно, не очень. Атаки на бреющем полете конечно случались. И на марше у нас бывали потери от авиации. Но лично я от атак советской авиации не пострадал. Можно сказать, что авиация у Советов была, но мы не особенно ее чувствовали.
Хотя если коснуться вопроса по красной авиации, то её стало больше в 1944 году. Особенно опасен был на бреющем полете их Ил-2. Я не особенно различал самолёты, но Ил-2 был очень действенным оружием! Они отличались тем, что были очень хорошо бронированы, то есть хорошо защищены. Я сам видел, как по ним попадала 20-миллиметровая зенитная пушка. Прямые попадания - пап-пап-пап. А ему хоть бы что, и он летит дальше! 20-миллиметровая зенитка им ничего не могла сделать.
- Они были опасны? Вы их боялись?
- Да, конечно, очень боялись.
- От них были потери?
- Не могу оценить.
- У вас было в ходу особое прозвище для Ил-2?
- Нет.
- От своих «Штук» вам не доставалось?
- Нет. От этих точно нет.
- Какое у вас было персональное оружие?
- Мой пистолет.
- Парабеллум?
- Нет. Нормальный «Вальтер»: маленький, который был у всех офицеров. Р-38 я не носил, хотя мы его изучали. Немецкий пистолет-пулемет мне не нравился, он был плохой. Во время прорыва из котла, я взял себе карабин. Р-38бросил, и взял карабин.
- Трофейным оружием пользовались?
- Нет.
- В ходе отступления к Днепру летом 1943 года, был приказ Манштейна о выжженной земле?
- Не помню такого. Настоящая выжженная земля была в 1941-м году, по приказу Сталина. Например, нам попалось подожженное поле с пшеницей. Туда пришли люди, местное население, и спрашивали нас, можно ли им что-либо взять. Нас это удивляло – «Почему они нас об этом спрашивают?» Мы им говорили: «Берите, нам не надо. Это хорошо, если у вас будет еда». Сейчас я очень часто об этом думаю. Выжженная земля! Приказ, вероятно, мог существовать, и я не знаю, Манштейн его дал или Гитлер. Но, или мы его не получили, что вполне могло быть, мы его не выполняли, потому что у нас имелись другие насущные проблемы. Понимаете? Я не мог этим заниматься! И я не мог приказать – «Езжайте туда и сожгите там все». Нам нужно было воевать, а не жечь!
- Русские ветераны рассказывают про немецкие мины-ловушки на дверях, велосипедах и так далее.
- Это могло быть, но специальных приказов на это не давалось. Мы делали по-другому. Во многих случаях, когда при отступлении приходилось покидать штабной бункер, туда закладывался большой заряд, и дистанционно подрывался. Мы считали, что если Советы займут наш блиндаж, то обязательно там останутся и будут его использовать. Так мы делали не всегда, но два или три раза такое точно делалось, и я не знаю, что из этого получилось. Какой был результат - неизвестно.
- Русские делали взрывчатку с камнями на доске. Вы видели подобное?
- Нет, я с таким не сталкивался.
- Подпрыгивающие мины?
- Подпрыгивающие мины? Ах, эти S-мины. Честно говоря, меня учили их применять, но я не могу вспомнить. А мы определенно их использовали… Сожалею, но я уже многое забыл.
- Вы взрывали подбитые советские танки?
- Нет. Как-то раз в январе 1943-го я подорвал наш же собственный танк, который застрял на переднем крае. Тогда на фронте южнее Ростова у нас появились танки новейших типов. Этот «Тигр» встал по техническим причинам и мы его взорвали.
- В районе Балатона, в Венгрии, вдоль дорог осталось много мин, не установленных. Вы что-то такое помните?
- Не помню такого. Во время нашего отступления?
- Нет, наступления.
- Какая-то фигня! Зачем мины во время наступления? Может, советские мины? Может, русские не успели их поставить?
Я помню только минное заграждение, о котором я уже рассказывал - 18 января южнее Секешфехервара, в районе Шарвиз-канала [Sárviz-Kanal]. Кроме того раза, у нас никаких проблем с минами не случалось. Во время отступления мы не могли бы установить мины. Все происходило слишком быстро. После Будапешта бежали целые армии, тогда уже было не до мин!
- Когда появились «Тигры» и «Пантеры», тяжелые танки, вы строили для них мосты, насколько это было тяжело?
- Мы этим не занимались. Для строительства таких мостов требовались тяжелые приспособления. Мы изучали и использовали в батальоне в 1939-1940-м годах так называемый Б-инструмент [B-Gerät] – набор понтонов. Но они не выдерживали танки, а только грузовики и артиллерию. Еще помню тяжелый К-инструмент [K-Gerät], его я не изучал, они были сконцентрированы в армии или в корпусе, в дивизии их не держали. Они использовались только в специальных случаях и специальными частями для постройки мостов. По-моему, после 1941 года, каждый батальон имел так называемую «мостовую колонну». Это набор, из которого можно построить мост длиной в 50 метров. Потом нам приказали их сдать, уже с зимы в батальоне они отсутствовали. Их начали группировать на более высоком командном уровне.
- Какой у вас был личный транспорт?
- «Kfz».
- Кюбельваген?
- Нет, Кюбельваген был в 1941 году, потом они все куда-то пропали. В 1942 году на Кавказе я получил «Штайер»: высокий, с двумя сиденьями сзади. Мерседесовский «Кюбель» - маленький, а этот - большой и высокий. Пришлось оставить его в степи, может он еще и сегодня там стоит. Отличный автомобиль, он хорошо ездил по пересеченной местности.
- Пешие марши случались? Или вы передвигались только на машине?
- Нет, пеших не было. Потом у меня был Фольксваген. Когда я принял батальон, то пересел на броневик. В спокойной обстановке, вне боев, я ездил на амфибии. Фольксваген и амфибию мы получили в 1943 году.
- Что такое Шутцпанцер?
- Это полугусеничная машина. Сзади гусеницы, а спереди два колеса.
- SKZ 252?
- Может быть, точно не помню.
- Он служил для перевозки личного состава?
- Да, и это особенно хорошо в наступлении.
- Вы участвовали в ближнем бою?
- У меня серебряный значок за ближний бой. Пожалуйста, не принимайте персонально! Я не участвовал лично в рукопашной. Его давали за ближний бой с оружием. Конкретно я получил его за бой в районе Секешфехервара. Там проводилась контратака моими штабными людьми и мной лично.
- Русские часто проводили разведку?
- Да. Но прямо сейчас я не могу вспомнить.
- Похоронки вы сами писали?
- Да, писал.
- Это было письмо или готовая форма?
- Письмо. Писать эти письма было слишком сложно и ужасно. Сам текст писался, конечно, унифицированный, но тем не менее…
- На какие задания вы вызывали добровольцев?
- Не знаю. Не могу сказать. Я просто приказывал.
- Даже идти в разведку?
- Тоже приказывал. Добровольцев не вызывали: по-моему, нет.
- Вши были?
- О, да! Для начала у меня три раза случалась чесотка, потом вши.
- Клопы?
- Да, это самое отвратительное. Их приходилось щелкать всю ночь. Во время возвращения из отпуска мы ночевали в Днепропетровске, в хорошем доме. И там оказались клопы, и один унтер-офицер получил столько укусов, что у него от них случился коллапс. Клопы проедали все вокруг горла, поэтому такие места приходилось прятать. К клопам мы относились с большим почтением!
- Русским давали водку перед атакой. А вы получали?
- Нет. Специально нет. Как-то у нас появилось впечатление, что наши танковые командиры всегда пьяны, но я точно не уверен. Просто они себя так вели, что создавалось впечатление, будто они пьяны.
- Немцы тоже пили?
- Конечно! Но перед атакой - конечно нет. Я для себя считаю это невозможным.
- Вы носили шлем и противогаз?
- Противогаз мы с собой не носили. Шлем к концу войны надевали все реже и реже. Дайте вспомнить, когда на мне в последний раз был одет шлем? Нет, не помню! Сам этому удивляюсь. Это же совершенно не правильно. Лучше было бы строго следить за тем, чтобы все носили шлем, - но мы, к сожалению, этого не делали.
- Вы сами не следили, чтобы Ваши солдаты носили шлем?
- Нет, на каком-то этапе уже не следил. Я сам его уже не носил, и поэтому не мог им приказывать.
- Вы следили за внешним видом солдат, чтобы они брились, застегивали пуговицы?
- Да. Знаете, на фронте это не имело значения, застегнуты ли у них пуговицы, и я об этом не заботился. Но порядок должен быть.
- Честь на фронте всегда отдавали?
- Не всегда. Но был вот такой эпизод. В Штирии, в самом конце войны, в апреле 1945 года, нашим соседом стояла 10-я горная дивизия - такие бравые парни. Там стоял один фельдфебель, я не помню точно его звание. В общем, я как-то дал ему понять свое неудовольствие тем, что он не отдал мне честь. Хе-хе… Он как-то очень злобно отреагировал, сказал: «Я что, каждому буду честь отдавать? Вы с ума сошли?» Но когда он увидел мой Рыцарский Крест, все сразу очень резко изменилось…
- Честь отдавали нацистским приветствием?
- Да.
- Расскажите про отношение к противнику. Русские противника ненавидели. А вы?
- Ненависть!? Нет. Я вам хочу сказать, что я много об этом думал. В тот момент, когда человек стоит перед тобой без оружия, беззащитный или раненый, ненависть прекращается. Если Вам кто-то говорит по-другому, то это неправда. Нельзя по-другому, это ненормально. В этом нет ничего особенного, это правильно. Ведь и я не святой.
Как-то раненные лежали вдоль дороги, и я не знаю, были ли они русские или наши, но им надо было помочь, - и им помогали. Мои санитары и наш доктор в Успенской много делали для гражданского населения. Иногда мы раздавали еду из кухни, если что-то оставалось.
Знаете, особенно летом 41-го, все эти приветствия, которыми нас встречали местные жители. Это было что-то! Мы были поражены. А при отступлении! После прорыва из котла в Черкассах, недалеко от Лемберга, в Галиции я стоял на квартире в доме, и там висел плакат, на котором по-немецки было написано: «Добро пожаловать!» А это же раньше была Австрия. Хозяин-украинец, старый человек, служил еще в австрийской армии, он был очень далек от коммунизма. И это произошло в 1944 году, когда война уже шла к проигрышу.
- На Восточном фронте были бордели?
- По-моему, да. Мы слышали, что к югу от Таганрога есть бордель - ходили такие слухи. Во время наступления на Кавказ мы остановились в деревне Грабово и узнали, что рядом находится греко-немецкая деревня, и в отличие от нашей, она очень порядочная и опрятная. Что интересно, я туда отправил посыльного с униформой, чтобы ее постирали. Через некоторое время он оттуда вернулся подозрительно довольный. Вероятно он тут же сообщил другим, и стали происходить быстрые контакты. Солдаты ходили туда ночью и быстро делали свои дела. Хотя это было и запрещено, но за всеми ведь не уследишь. Но это получается уже не бордель, а что-то другое.
К тому же в тот момент сложилась спокойная обстановка. Мы могли немного расслабиться: спокойствие, чистота, возможность помыться…
- За такие контакты с гражданским населением наказывали?
- У нас нет. Южнее Мелитополя у меня приключилась одна милая и небольшая история. Мой командир роты заболел, и я исполнял его обязанности, как командир 1-го взвода. Там тогда еще оставалось довольно много немецких деревень. После долгого марша по степи мы вошли в деревню Гнаденбург. В доме, где я остановился, жила женщина с детьми, и она разговаривала по-немецки - на диалекте с русским звучанием, как это бывает у русских немцев. Эта женщина меня пригласила на обед, сготовив густой суп из курицы. Первый раз на войне я кушал за столом покрытым скатертью, с посудой, ложкой и вилкой, как дома.
Она нас пригласила, и нам этот обед показался каким-то чудом. Мы были чрезвычайно тронуты и стали расспрашивать ее: «Где ваш муж?» - «В Красной Армии», - «По-русски Вы разговариваете?» - «Плохо. Но русский мне не требуется, на нем обычно разговаривает муж».
Происходило ли это так в нормальных украинских семьях, чтобы нас приглашали и кормили, я этого не могу сказать. Возможно, и было… Мы с подобным отношением сталкивались только в деревнях. В городах люди относились к нам враждебно: там, вероятно, жило больше коммунистов. А в деревнях женщины выходили и нас приветствовали, махали нам платками…
- Что вы можете сказать о командире своей дивизии Херберте Отто Гилле? Как о человеке и командире?
- Энергичный, упорный. Я вам рассказывал, как он меня наказал. Но, несмотря на это, наши отношения остались на прежнем уровне - мы отлично понимали друг друга. Мы поддерживали контакты и после войны. Он очень многое делал для других, и за это его очень любили, очень.
Первый командир Штайнер, мне кажется, как командир был большего формата. Он обладал высокой крепостью духа и некоторой изворотливостью, а Гилле, конечно, был попроще. Но его, как преемника Штайнера, тоже очень уважали. Он с нами пережил прорыв из котла, эту катастрофу. Там мы часто его видели, и я могу сказать, что именно там он заработал себе непререкаемый авторитет, очень хорошо проявив себя. И в котле под Ковелем он вел себя не менее достойно. Он очень хорошо исполнял свои обязанности.
- Рудольф Мюленкампф?
- А, Мюленкампф! Да, конечно. Но он командовал примерно 8 недель. Кстати это он меня представил к Рыцарскому кресту. У меня еще сохранилось подписанное им представление. Мюленкампф считался очень способным танковым командиром, которого очень ценили его солдаты. Мне казалось тогда, что он немного слишком высокого о себе мнения, и слишком тщеславный. Но опять же повторюсь, что личный состав его очень уважал! Конечно, в нормальных условиях он бы не стал командиром дивизии, а я бы не стал командиром батальона – мы оба были слишком молоды. К концу войны по причине высоких потерь командирами становились очень рано. Некоторые становились командирами полков в 32 года, а это, по-моему, слишком рано для командира полка. У Советов была схожая ситуация, и это понятно.
- Я знал командира танкового батальона, которому был 21 год.
- Да, это вполне возможно.
- Последний командир вашей дивизии, Карл Ульрих, что о нем можно сказать?
- Мы дружили с ним после войны. Когда я еще был рекрутом, он командовал моей ротой. Прошли годы, и его поставили к нам командиром батальона, а потом повысили до командира полка. Мы с ним встретились, когда я уже дослужился до командира батальона. Это была встреча двух старых добрых друзей.
Все его считали очень хорошим товарищем. Он очень быстро находил подход к каждому, я бы даже сказал - незамедлительно. Его очень любили, но он не обладал достаточным влиянием на подчиненных. Я к нему очень хорошо относился как к человеку. Если же его оценивать как командира, то он не был таким строгим, как Гилле, а как бы слегка поддавался, не мог быть до конца настойчивым и решительным. Знаете, лошадей ведут на длинном и коротком поводке. Так вот, он вел на длинном, а Гилле - на коротком.
- Как вас взяли в Бундесвер, СС же не брали?
- Да, именно. Тогда Штраус был министром обороны. По конституции - у всех равные шансы. Но он сказал: «Разрешить только Ваффен СС». Разумеется, понятно - это граждане второго сорта. Так хотела оппозиция.
В первый раз меня проверяли в 1957 году. Мне написали, что у них теперь достаточно информации. Потом проверяли во второй раз. В этот раз собралась комиссия, президиум. Стали меня гонять по операциям «Викинга». Среди проверяющих оказался офицер, который, как я позже узнал, был при штабе 1-й танковой армии. Он точно знал, где воевал «Викинг». И когда я что-то говорил, он подтверждал: «Это правда, я подтверждаю».
- Это была не проверка ваших способностей, а проверка благонадежности?
- Да. Их интересовали мои настроения. Меня не спрашивали - «Что вы думаете про Гитлера?» - такого не было. Меня спрашивали: «Как бы вы поступили, если бы вам надо было атаковать деревню? С артиллерией и так далее. Надо стрелять. Как Вы будете обращаться с гражданским населением?» Среди них особенно старалась одна женщина, она просто требовала ответов. Тогда я ей сказал, что я солдат, и так вести войну, как Вы подразумеваете, мы вообще не сможем. Если я атакую деревню, то сначала мне надо обстрелять ее артиллерией. Но я постараюсь это сделать безопасно для населения, в соответствии с Женевской конвенцией, и только в тех рамках, насколько это нужно… И так далее. Тогда другие члены комиссии мне сказали, что я сделал бы правильно… Вот так такие вопросы мне задавали, когда меня брали в Бундесвер.
- Во время службы в Бундесвере, у вас было ощущение, что вы все-таки из СС, и поэтому что-то все-таки не так?
- Нет. Я думаю, что был целый ряд офицеров, который считал, что Ваффен СС это не правильно, не хорошо. Но большинство были обычные фронтовые солдаты, которые знали, где мы воевали, и поэтому считали нас товарищами по фронту. И я не был тем, кто представлял идеи СС. Я и тогда-то эти идеи не защищал, а сейчас и подавно. Я их не принимаю.
- В 60-х годах Бундесвер был похож на Вермахт по организации?
- По внутренней структуре - да. Но мы ведь находились под очень сильным американским влиянием. У нас не было собственных военачальников, своего собственного Верховного командования. У нас имелись только командиры уровня дивизии и корпуса. Нам, офицерам Вермахта, приходилось привыкать к этим новым условиям.
Я, как штабной саперный офицер, каждый год участвовал в «международной неделе». Английские, бельгийские, голландские штабные офицеры встречались с немецкими. Один год в Германии, один год в Англии, и так далее. Тактические учения и контакты. Тактическая подготовка для командиров велась как в немецкой армии. Я не мог ее сравнить с американской, но по моим понятиям она велась, в принципе, точно так же, как в юнкерской школе, - по схожему образу мысли. Я должен сказать, что у меня образ мысли еще от старого духа, и, по-моему, этого и хотели американцы. Есть книга, которую написал француз, она об оценке боевых способностей немецких солдат. Он написал, что даже в условиях поражения немцы могли атаковать. Во время войны я об этом не думал, но когда я сейчас об этом думаю – да, это верно. Конечно, как тяжело нам ни было, но мы держались, и снова и снова атаковали. И вот сегодня я должен сказать, - это сегодня точно никто не сможет. Я думаю, что и в России уже тоже так не могут. Это понятно. Но это больше и не нужно.

- Качество солдат в Бундесвере в 60-х было сравнимо с Вермахтом?
- Я не могу сказать. Я в этом сомневаюсь. Но давайте уточним, - Вермахтом какого периода?
- 1941-й.
- Мне так не кажется. Нет.
- Чего не хватало?
- Мотивации, мне кажется. Восторг вокруг Гитлера не был принудительным. Я стоял в Австрии, в Вене, и все это видел собственными глазами, - и не мог себе даже представить, что все так будут радоваться. Мотивацию в таком напряжении Бундесвер больше не мог поддерживать. Это нормально. Хорошее командование, хорошо подготовленное, все хорошо работает, - но такой мотивации уже нет.
- Вам кажется, что ваше поколение особенное?
Да, все-таки да. Нас воспитывали очень жестко, в суровых обстоятельствах. От нас все время требовали достижений. «Мы – Германия! Мы сделаем это! Мы – немцы!» И так далее…
- Из-за Версаля?
- Да, только из-за него. Я сегодня считаю, что в истории этот вопрос должен быть абсолютно ясен. Как много немцев было не за Гитлера: аристократия и прочие. Но Германия должна была восстановиться, а Версаль должен был быть сломлен - это всех объединило. Это простая экономика. За три года исчезли 6 миллионов безработных. Просто появилась работа. Мы начинаем, работаем, каждый делает свою маленькую работу - все вместе. Это мы называем «настроение прорыва». Я должен сказать, что в Германии после войны было что-то похожее, когда мы выбирались из этих руин, которые нас окружали. За несколько лет мы все выстроили заново! Мне кажется, это было сделано, прежде всего, поколением фронтовиков, - теми, кто вернулись обратно. Точно так же, как это было сделано после Версаля. Когда ты хорошо живешь, долго сидишь в кресле, ты становишься ленивым. Мы в Германии уже долго живем зажиточно. У нас все хорошо, у нас есть машины, - но когда ситуация станет серьезной, если придет нужда, то… Мне страшно. Я боюсь, что когда беда придет, здесь будет очень тяжело. Те силы и стимулы, которые у нас были до и после войны, просто так не появятся!
- В каком звании вы уволились из Бундесвера?
- В звании полковника, инспектора саперных войск. В мои обязанности входили только контроль и инспекции.
- Война снится?
- Хм. Да, может быть. Сны я сразу забываю. Но прошлое всплывает, и я каждый день думаю о войне, вспоминаю, какое-то имя, или еще что-нибудь. Не могу забыть!
Я бы мог лучше всё рассказать, если бы прочитал мои воспоминания и подготовился. Но они недостаточно хорошие. Там есть моменты, которые сейчас я считаю неверными. Когда я стал преподавать тактику в саперной школе Бундесвера, то все это проработал и опубликовал для обучения офицеров. Получилось небольшое историческое исследование, составленное по докладам офицеров штаба ХХХХ танкового корпуса. К сожалению, утеряны радио-переговоры погибших танковых командиров. У меня получился достаточно поучительный доклад о том, как можно, будучи в меньшинстве, отражать атаки превосходящего противника. У нас там был «Викинг», 7-я танковая дивизия и, по-моему, 3-я. У 7-й дивизии числилось семь танков, у 3-й - восемь, а у "Викинга" - десять. А у Попова было 150 танков и пехотная дивизия! [Г-н. Хедер забыл упомянуть о 49 танках 11 тд, а так же о некотором количестве «штугов» и моторизованной артиллерии. – Прим.] Неплохо бы этот труд отправить историку. В нем каждая фаза действий противников положена на карту. Например, я помню, как мастерски маневрировали танковыми соединениями, чтобы 7-я танковая дивизия не оказалась в окружении. Это очень интересно, как удавалось при полном превосходстве врага, в решающем пункте и в нужное время сконцентрировать те немногие силы, которые имелись в наличии, - с риском того, что враг прорвется где-нибудь в другом месте. В течение одной недели это получалось очень хорошо.
Люди постоянно интересуются моими орденами, униформой и документами. Один антикварный торговец из Гамбурга написал мне, что он продаст мою солдатскую книжку и водительские права за 4000 евро. Получается приличная сумма! К моей жене часто приходили люди и спрашивали, не продаем ли мы то или это. Я всегда говорил нет, но у меня особо много и не было. Вот ордена у меня еще оригинальные. Их удалось сохранить, потому что американцы у меня их не нашли и не украли.

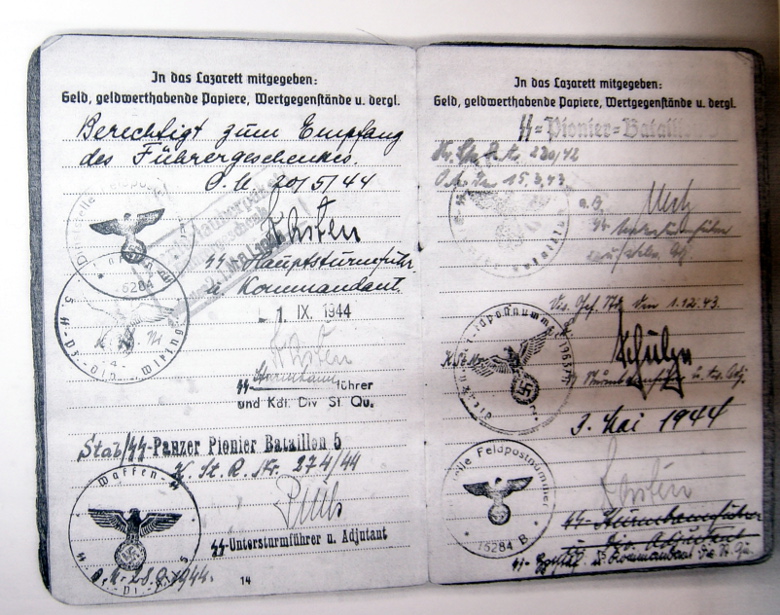
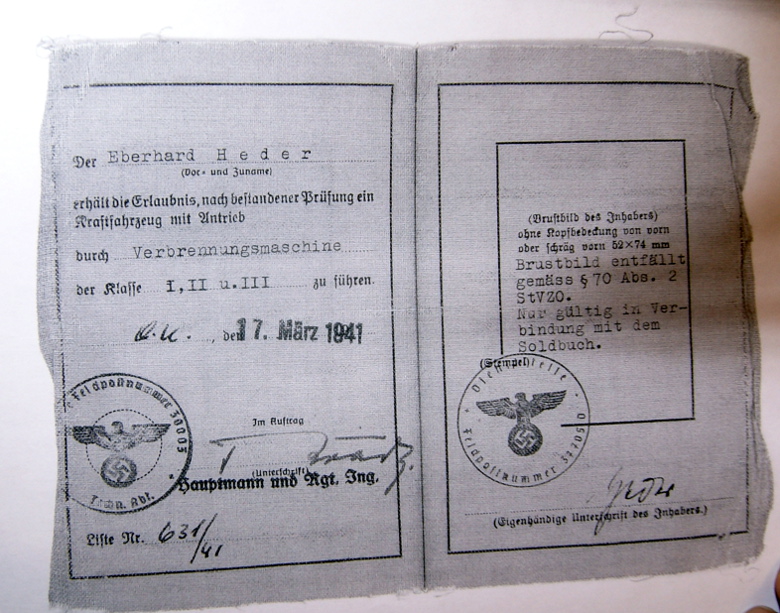
Один раз моя жена говорит: «Какой-то тип просит твою солдатскую книжку», - «Откажи ему», - «Ну, на фига она тебе?». Мне подумалось – «Действительно, на фига? Просто я хотел сохранить данные из нее». Тогда я сказал: «Хорошо, пусть забирает». Переписал из нее информацию, и отдал. Потом звонил какой-то люксембуржец, который ее заинтересовался и перекупил у кого-то. Так она и переходит из рук в руки. Это невероятно.
| Интервью: | А. Драбкин |
| Перевод на интервью: | А. Пупынина |
| Расшифровка: | В. Селезнёв |
| Лит. обработка: | С. Анисимов, С. Смоляков |






